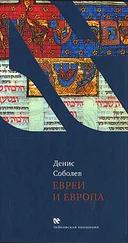По ночам было еще холодно, иногда шли дожди, и я старался ночевать в домах, каменных укрытиях, чуть позже в пещерах, под покровом леса. Я спрашивал о пути к черной реке, старики недоуменно разводили руками, и девушки степи поили меня кумысом. Как-то раз я заночевал в маленькой пещере с неровными влажными стенами; от нее начиналась высокая каменная осыпь. Под моими ногами лежат камни, подумал я и посмотрел на небо. Накануне того дня я остановился на хазарской стоянке, где пекли такой же хлеб, как и у нас в Итили; он был круглым, плоским, чуть подгоревшим. И сейчас, сидя в темноте, на камне, над почти невидимым осыпным склоном, я достал из седельного мешка последний ломоть, и душа наполнилась горечью горелого домашнего хлеба. Я запил его вином из маленького деревянного кувшина. Иногда я кидал хлеб птицам и смотрел, как они падают вниз и сразу же испуганно возвращаются к спасительной пустоте воздуха, но потом, осмелев, собирают крошки, осторожно расхаживая по земле. Именно в эти моменты на них было проще всего охотиться; так говорили мне в детстве. Тогда, в детстве, меня учили читать знаки темноты, шелест веток и далекий плеск воды; ходить по земле, не оставляя следов в море звука и почти не отбрасывая тени. Я подумал, что весь мой путаный путь к слиянию черных рек и есть такой шаг навстречу обманчивым и правдивым знакам темноты. А еще я когда-то любил смотреть, как цветет тина.
5
Я никогда не знал, что в этом городе у меня столько знакомых, подумал я; я встречал людей, которых никогда не терял из виду, людей, о которых почти забыл, и людей, которых могло бы и не существовать вовсе. Но мне были интересны они все; не только из-за лежавшей на них печати войны, страха, спокойствия или равнодушия, но и потому, что где-то вдалеке красноватым силуэтом, как горы Заиорданья в ясный солнечный день, маячило предчувствие встречи, неизвестно с кем и неизвестно для чего, — встречи, которую я ждал и в которую я не верил. В один из таких дней я и встретил одну давнюю знакомую по имени Ира; она меняла слова чаще, чем красила волосы, но желания ее были неизменны, а обиды бежали впереди нее, как свора гончих. Я был знаком с ней по многочисленным общим компаниям, да и не только; она жила на пособие для матерей-одиночек и еще работала в каком-то обществе еврейско-арабской дружбы, занимавшемся, среди прочего, организацией процессий и демонстраций в поддержку палестинцев. Впрочем, о доходах от этой работы она предпочитала не распространяться. Она читала довольно много, любила упоминать модные имена; она была из тех, кто умеет читать книги, вежливо пропуская их мимо себя.
— Если бы я родилась в шестидесятые, — сказала она мне, уже сидя в кафе и с легким кокетством опуская глаза, — я могла бы быть битником или хиппи.
— В каком смысле? — удивленно спросил я, разглядывая ее платье, купленное, как мне показалось, в одном из дорогих бутиков.
— В самом что не на есть прямом, — отозвалась она, — мне отвратительно всякое насилие. Это вы, мужчины, воспринимаете его как нечто само собой разумеющееся, а женщины в глубине души никогда не смогут с ним примириться. Ты помнишь «Лисистрату»?
— Да, — ответил я, — помню.
— При этом, как мужчина, ты же видишь, как все оно вокруг и что наша армия делает с палестинцами, но тебе до лампочки. Да и все молчат. Почти все.
— И что же она с ними делает? — спросил я.
— А то ты не знаешь. Не валяй дурака, а? Унижения, расизм, обыски, оцепления, на работу их не пускают. Настоящие фашисты.
Мне показалось, что она выступает на каком-то собрании.
— А ты хочешь, чтобы они приезжали сюда и убивали в свое удовольствие?
— А это уже проблема полиции; если она не может поймать убийц, это еще не причина издеваться над гражданским населением. А обстрелы, в которых гибнут случайные люди? Тебе по ночам мальчики кровавые не снятся? Чем это отличается от террора? Только здесь он государственный.
— Тем, что мы никогда не пытались убивать мирных жителей; наоборот, щадили их, насколько возможно. А войн без случайных жертв, к сожалению, не бывает; по крайней мере, в истории таких не числится.
— Как тебе не стыдно так говорить? — закричала она. — Я и не знала, что ты настолько черствый человек. А если нельзя воевать, не становясь серийными убийцами, значит, не следует воевать вовсе. Это уже проблема личной совести. А наша армия и вообще преступная организация.
— То есть ты хочешь, — сказал я, — чтобы сюда мог приехать любой бандит и убить твоих детей, если ему захочется.
Читать дальше