Она посмотрела на его тело, вытянувшееся рядом с нею. Он не дрожал больше, и она поняла, что одинока в своем ощущении, что только для нее одной в этом мгновении заключалась вся та скорость, вся та высота, весь тот космос, к которому она так стремилась.
Тут же в темноте он опять начал говорить о горящих самолетах, о том, как находят то, что еще осталось от живых, об опознании мертвых.
— Некоторые умирают молча, — говорил он. — Стоило заглянуть им в глаза, и ты понимал, что они умирают. Некоторые умирают воя, и тогда ты должен отвернуться и ни в коем случае не смотреть в их глаза. Знаешь, меня сразу предупредили, когда отправляли туда: «Никогда не смотри в глаза умирающих!»
— Но ты смотрел, — сказала Сабина.
— Нет, нет, я не смотрел!
— А я знаю, что смотрел. Это видно по твоим глазам. Ты смотрел в глаза умирающих, хотя, может быть, только в самом начале.
Она ясно представила себе, как он, семнадцатилетний юноша, совсем еще ребенок, с нежной девичьей кожей, тонкими чертами лица, маленьким прямым носом, женским изгибом рта, застенчивым смехом, с такой бесконечной нежностью в лице и теле, смотрит в глаза умирающих.
— Инструктор говорил мне: «Никогда не смотри в глаза умирающих, а то сойдешь с ума». Ты думаешь, я сошел с ума? Он это имел в виду?
— Нет, ты не сошел с ума. Ты глубоко ранен, страшно напуган, ты в полном отчаянии, и ты чувствуешь, что не имеешь права жить и наслаждаться, потому что твои друзья уже мертвы, или еще только умирают, или летают еще. Ведь так?
— Я хотел бы быть с ними — пить, летать, видеть новые страны, новые лица, спать в пустыне, чувствовать, что в любой момент можешь умереть и потому должен напиваться быстро, сражаться жестоко, смеяться до упаду. Я хотел бы быть сейчас там, а не здесь, где я веду себя так плохо.
— Ведешь себя плохо?
— А разве то, что мы делаем с тобой, не значит «вести себя плохо»? Ты не сможешь убедить меня, что это не так.
Он выскользнул из постели и оделся. Своими словами он испортил ее приподнятое настроение. Она натянула простыню до самого подбородка и не произносила ни слова.
Но когда он был уже полностью одет и ему оставалось только взять башмаки, он вдруг наклонился над ней и голосом нежного юноши, пытающегося играть роль доброго папочки, спросил:
— Хочешь, чтобы я убаюкал тебя, перед тем как уйти?
— Да, да! — пробормотала Сабина, и ее разочарование стало таять. — Да, — сказала она с благодарностью, которая была вызвана не его покровительственным жестом, а тем, что она поняла: если бы — в его собственном представлении — он считал ее «плохой», то никогда не стал бы ее «убаюкивать». Ведь никто не будет баюкать «плохую» женщину. И конечно, его жест означал, что, вероятно, им суждено еще встретиться вновь.
Он нежно укутал ее, с аккуратностью, присущей летчикам, и мастерством, выработанным долгим опытом полевой жизни. Она лежала на спине и с благодарностью принимала его заботу, но понимала, что сейчас он так нежно баюкает не ночь наслаждения, не некое абстрактно удовлетворенное тело, а тело, в которое он только что всадил инъекцию яда, убивающего его самого, тело, которое он заставил разделить с ним безумие голода, вины и смерти, мучающее его самого. Он впрыснул в нее инъекцию своей ядовитой вины за то, что еще жив и еще испытывает желание. Он примешивал яд к каждой капле своего наслаждения, добавлял по капле яда в каждый поцелуй, и каждый толчок его чувственного желания был подобен удару ножа, убивающего то, что он возжелал, убивающею с чувством вины.
На следующий день приехал Алан со своей неизменной улыбкой и неизменно ровным настроением. Также оставалось неизменным и его представление о Сабине. Сабина надеялась, что Алан избавит ее от наваждения, поработившего ее прошедшей ночью, но он был так далек от ее хаотического отчаяния, а его рука, протянутая к ней, и любовь, которую он мог ей предложить, находились слишком в неравном положении с той силой, которая тянула ее вниз.
Ее тело испытало резкий, интенсивный миг наслаждения, но он слился с резким, интенсивным отравлением.
Ей хотелось спасти Джона от искаженного восприятия мира, которое, как она знала, ведет к сумасшествию. Она хотела доказать ему, что его чувство вины ошибочно, а его представление о ней самой и о сексуальном желании как о чем-то «плохом», представление о своем плотском голоде как о чем-то «плохом» является болезнью.
Паника, голод и ужас, таившиеся в его глазах, глубоко проникли в нее. Она желала бы никогда не заглядывать в эти глаза. Она чувствовала острую необходимость освободить его от чувства вины, необходимость спасти его, потому что, по непонятной ей самой причине, она уже потонула вместе с ним в этой вине. Теперь она хотела спасти и его, и себя. Он отравил ее, перенес свое злосчастье на нее. Если она не спасет его, не изменит его видение мира, то просто свихнется вместе с ним.
Читать дальше

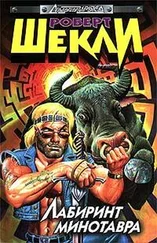





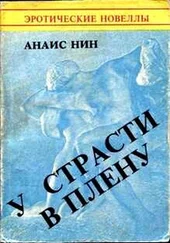
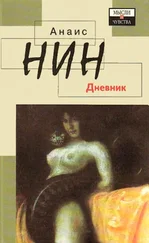

![Мишель Бюсси - Помнишь ли ты, Анаис? [сборник]](/books/409873/mishel-byussi-pomnish-li-ty-anais-sbornik-thumb.webp)

