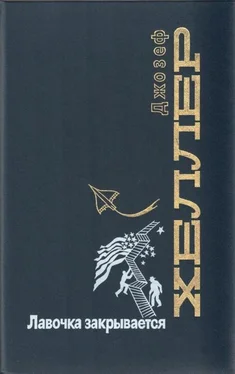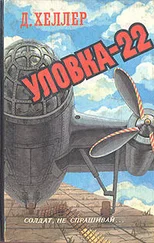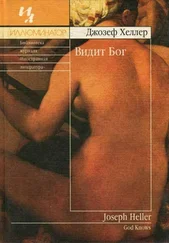Не колеблясь, он воспользовался инерцией своего движения и сделал гигантский шаг вперед — прямо в зеркало, в само иллюзорное изображение самого себя в виде крепкого парня с полнотой человека средних лет; он вышел с другой стороны седоволосым мужчиной под семьдесят и оказался в просторном парке аттракционов, развернувшемся перед ним плоским полукругом. Он услышал звуки карусели. Он услышал звуки русских горок.
Он услышал вдалеке веселые крики и визги напускного страха, издаваемые группкой мужчин и женщин в плоскодонке, устремляющихся вниз по крутому порогу, чтобы с плеском остановиться на ровной глади пруда. Перед ним теперь медленно вращался по часовой стрелке идеальный круг волшебной бочки, «Бочки смеха», которая была обозначена номером один в его бело-голубом билете. Обращенные к нему ребра наружной поверхности вращающейся полой камеры были малиново-леденцового цвета и цвета сладкого сиропа для газировки, а по небесно-голубому фону обода среди разбросанных там и здесь белых звезд и рассыпающихся абрикосового оттенка улыбающихся лунных полумесяцев пролетали желтые кометы. Он легко прошел сквозь бочку, держась линии, противоположной направлению вращения, а выйдя, сразу же столкнулся с беседующей парой; в одном из собеседников он узнал покойного писателя Трумена Капоте, а имя другого заставило его насторожиться.
— Фауст, — повторил незнакомец.
— Доктор Фауст? — нетерпеливо спросил Йоссарян.
— Нет, Ирвин Фауст, — сказал человек, тоже писавший романы. — Хорошие отзывы, но ни одного настоящего бестселлера. А это Вильям Сароян. Уверен, вы никогда о нем не слышали.
— Да нет же, слышал, — обиделся Йоссарян. — Я видел «Путь вашей жизни». Читал «Бесстрашный юнец на трапеции» и «Сорок тысяч ассирийцев». Ассирийцев-то я хорошо помню.
— Их больше не печатают, — скорбно сказал Вильям Сароян. — И в библиотеках их не найти.
— Я когда-то пытался подражать вам, — признался Йоссарян. — Но у меня ничего не получилось.
— У вас не было моего воображения.
— Многие пытаются подражать мне, — сказал Эрнест Хэмингуэй. Оба носили усы. — Но тоже безуспешно. Хотите подраться?
— Я не люблю драться.
— Многие и ему пытаются подражать, — сказал Эрнест Хемингуэй и показал на Уильяма Фолкнера, погруженного в молчание и сидящего в тесном пространстве, битком набитом беспробудными пьяницами. Фолкнер тоже носил усы. Как и Юджин О'Нил, Теннесси Уильямс и Джеймс Джойс, расположившиеся неподалеку от тех, кто занимал площадку для страдавших расстройствами психики в пожилом возрасте, выражавшимися в депрессиях и нервных срывах; среди них молча сидел Генри Джеймс с Джозефом Конрадом, уставившимся на Чарльза Диккенса, который примазывался к многочисленной толпе в зоне самоубийц, где Ежи Козински болтал с Вирджинией Вулф неподалеку от Артура Кёстлера и Сильвии Плат. В луче коричневатого солнечного света на фиолетовом песке он увидел Густава Ашенбаха в шезлонге и узнал книгу, которую тот держал на коленях; это было точно такое же, как и у него, издание в мягкой обложке: «Смерть в Венеции и семь других рассказов». Ашенбах поманил его пальцем.
А Йоссарян не смог сдержаться и беззвучно сказал ему: «Пошел в жопу!», мысленно выставив средний палец и сделав неприличный итальянский жест, означающий отказ; он заспешил мимо «Хлыста», «Кренделя» и «Водоворота». Взгляд его ухватил следящего за ним Кафку, который, туберкулезно кашляя, расположился в темной нише под закрытым окном, откуда за ним наблюдал Марсель Пруст; окно это выходило в перекрытый проулок с указателем УЛИЦА ОТЧАЯНИЯ. Он подошел к огороженной чугунным забором горке, по которой поднимались ввысь рельсы, и увидел название — «УЩЕЛЬЕ ДРАКОНА».
— Черт побери! — воскликнул Макбрайд, которого нигде поблизости не было. — Здесь и правда русские горки!
Затем он оказался у карусели, разукрашенной, продуманной до мельчайших деталей, отделанной зеркалами; на круглом навесе и внутренней стороне карниза красовались написанные на деревянных панелях картины, заключенные в серовато-белые багетовые оправы и перемежающиеся с вертикальными овальными рамами, в которые были вставлены отражающие стекла. Жизнерадостный вальс, который несся из каллиопы, и в самом деле оказался похоронной темой Зигфрида, а в одной из красочных гондол, в которую были впряжены лебеди, гордо восседал пожилой немецкий чиновник в куполообразном шлеме и всевозможных наградах; осанка у него была столь величественная, что его вполне можно было принять за императора или кайзера.
Читать дальше