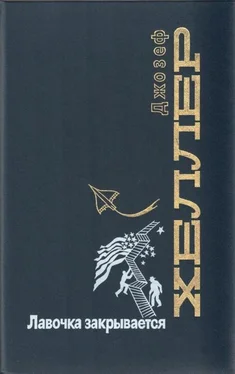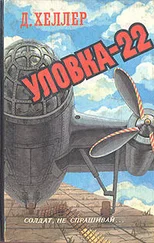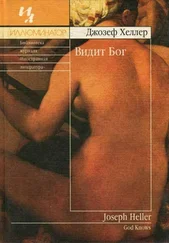Йоссарян и Майкл свернули в направлении от центра, обогнули сидевшую на тротуаре спиной к стене и крепко спавшую пожилую даму; она спала крепче, чем это получалось у Йоссаряна с того момента, как распался — а также начался и продолжался — его последний брак. Она безмятежно похрапывала, и бумажника у нее не было, отметил про себя Йоссарян, и тут его перехватил человек с шоколадной кожей, в сером френче с черной строчкой и темно-бордовом тюрбане, человек бормотал что-то неразборчиво, направляя их к вращающейся двери полупустого индийского ресторана, в котором Йоссарян заказал столик на ланч, в чем, как оказалось теперь, не было никакой необходимости. В просторном кабинете Йоссарян попросил принести два индийских пива, заранее зная, что выпьет и порцию Майкла.
— Как ты можешь есть все это сейчас? — спросил Майкл.
— С удовольствием, — сказал Йоссарян и положил себе на тарелку еще одну ложку острой приправы. Майклу Йоссарян заказал салат и цыпленка-тандури, а себе после острого супа — баранину-виндалу. Майкл изображал отвращение.
— Я не могу на это смотреть без тошн о ты.
— Тошнот ы .
— Не будь педантом.
— То же самое сказал и я, когда меня поправили в первый раз.
— В школе?
— В Колумбии, штат Южная Каролина, — сказал Йоссарян. — Это сделал тот маленький умный жопошник, что был у нас хвостовым стрелком, я тебе о нем рассказывал — Сэм Зингер с Кони-Айленда. Он был евреем.
Майкл покровительственно улыбнулся.
— Почему ты это подчеркиваешь?
— В те времена это было важно. А я возвращаюсь в те времена. А как насчет меня с такой фамилией — Йоссарян? Носить такую фамилию было не так уж просто среди туповатых парней с Юга и чикагских расистов, ненавидевших Рузвельта, евреев, черных и всех остальных, кроме чикагских расистов. Мы думали, что когда война закончится, все уродливое переменится к лучшему. Переменилось не многое. В армии каждый рано или поздно спрашивал у меня про фамилию Йоссарян. Всех устраивало, когда я им сообщал, что я — ассириец. Сэм Зингер знал, что я уже вымер. Он читал рассказ писателя по фамилии Сароян, которого, вероятно, нигде уже больше не печатают. Это тоже уже вымерло, как и Сароян. Как и я.
— Мы не ассирийцы, — напомнил Майкл. — Мы армяне. А я армянин только наполовину.
— Я им для смеха говорил, что я ассириец, дурачок. А они принимали это за чистую монету. — Йоссарян бросил на него ласковый взгляд. — Только Сэм Зингер и догадался. «Готов поспорить, что и я тоже мог бы стать ассирийцем», — сказал он мне как-то раз, и я понял, что он имеет в виду. Я думаю, что вдохновлял его. Когда пришло время показать, кто есть кто, мы с ним единственные отказались выполнять больше семидесяти заданий, которые уже налетали. Черт, ведь война уже практически закончилась. «В жопу тех, кто командует там наверху», — решил я, когда понял, что большинство из сидящих там наверху вовсе не на высоте. Много лет спустя я прочел у Камю, что единственная свобода, которой мы обладаем, это свобода говорить «нет». Ты когда-нибудь читал Камю?
— Я не хочу читать Камю.
— Ты вообще ничего не хочешь читать.
— Только когда мне по-настоящему скучно. На чтение нужно время. Или когда я чувствую одиночество.
— Это самое хорошее время. В армии я никогда не чувствовал одиночества. Этот маленький умный хер Зингер был книжным червем, и как только он понял, что я не возражаю, он начал вести себя со мной как хитрожопый клоун. «А разве не было бы лучше, если бы страна потерпела поражение в Революции?» — спросил он меня как-то раз. Это было еще до того, как я узнал, что людей тогда сажали в тюрьмы за критику этой новой политической партии. Майкл, а что западнее — Рено, штат Невада, или Лос-Анджелес?
— Конечно, Лос-Анджелес. А что?
— Неверно. Это я тоже узнал от него. Как-то вечером в Южной Каролине один пьяный громила, Бог его знает, откуда уж он был, без всякой причины набросился на него. Борьба была неравной. Я был офицером, хотя и снял с себя полоски, чтобы поесть в солдатской столовой. Я почувствовал, что должен защитить его, и как только я встал между ними, чтобы прекратить избиение, этот тип принялся размазывать и меня. — Йоссарян разразился добродушным смехом.
— О Господи, — застонал Майкл.
Увидев смятение Майкла, Йоссарян снова тихонько засмеялся.
— Самое забавное в этой истории, что это и правда было забавно; я с трудом удерживался от смеха, когда он меня лупил, я был так удивлен, что нисколько не чувствовал боли. Он бил меня по голове и по лицу, а мне не было больно. Потом я скрутил ему руки, но тут нас растащили. Откуда-то сбоку на него набросился Сэм Зингер, а наш второй стрелок, Арт Шрёдер, налетел на него сзади. Когда они его утихомирили и сказали, что я — офицер, он быстро протрезвел и чуть не помер со страху. На следующее утро еще до завтрака он пришел в мою комнату в офицерской казарме, чтобы просить прощения, и даже на колени упал. Правда. Никогда не видел, чтобы так пресмыкались. Он чуть ли не молиться на меня начал. Я не преувеличиваю. Он все никак не мог остановиться, даже после того как я ему сказал, чтобы он убирался и забыл эту историю. Думаю, у меня тоже могли бы быть неприятности из-за того, что я снял свои лейтенантские полоски, чтобы поесть в солдатской столовой, но ему это не приходило в голову. Я ему не сказал, какое отвращение у меня вызывает его раболепство. Вот когда я его ненавидел, вот когда я разозлился и приказал ему выметаться. Я до сих пор себе повторяю, что больше никогда никого не хочу видеть в таком унизительном положении. — После этого рассказа Майкл перестал есть, и Йоссарян поменялся с ним тарелками, доел его цыпленка и умял оставшийся рис и хлеб. — Слава Богу, на несварение я пока не жалуюсь.
Читать дальше