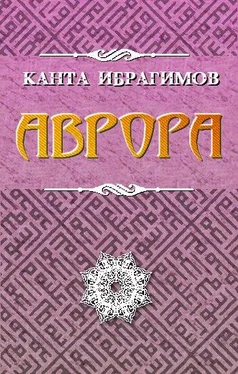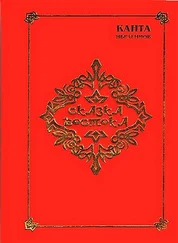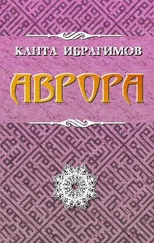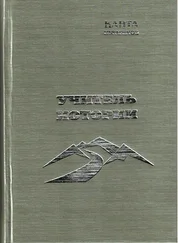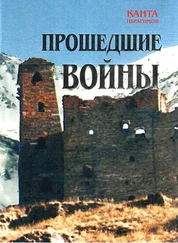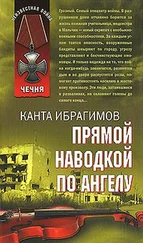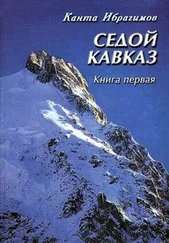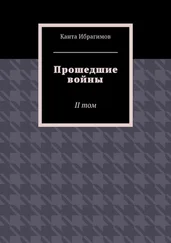— Впервые жалею, что не богат, — высказал Цанаев, — ей бы помог.
— Таусовой помочь может только Таусова, — категоричен генерал. — Как говорится: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И она правильно делает, что не тащит в этот омут и вас.
— Она пытливый ученый, и эту работу она мне дала.
— Я знаю. Но это в прошлом. А сейчас не забывайте о семье, детях и где вы работаете, сколько получаете.
— Я люблю ее, — прошептал Цанаев.
— У-у, — выдал по привычке генерал. — Этот диагноз пройдет. Хотя, где-то завидую вам, — он встал. — А как специалист в этой области, дам вам совет. Она, видимо, тоже очень любит вас и чисто интуитивно отстранилась, оберегая вас. Так что сторонитесь ее, любой контакт может пагубно сказаться для вас и для нее.
Цанаев об этом с болью думал, ничего не понимал. А у них в семье опять «ЧП»: вновь к их сыну, который только выписался из больницы, хотели было какие-то отморозки пристать, он чудом спасся — в корпус вуза забежать успел.
Жена плачет, боится. Цанаев нервный, за единственного сына переживает и сам ждет подвоха со всех сторон. А тут как-то с работы вышел, его по фамилии из какого-то черного джипа окрикнули: Федоров водительское окно приспустил, ему карточку протягивает, улыбается.
— Что это такое? — встревожился Цанаев.
— Вам в благодарность подарок — телефон Авроры, вы ведь просили.
И пока профессор что-либо сообразил, машина умчалась, а он в сгустившихся сумерках долго разглядывал номер — точно, код Норвегии.
Можно было вернуться в кабинет или дойти до дома, да он не хотел, чтобы кто-то услышал, хотя, наверняка, подслушивают. Ему на все плевать, он хочет, очень хочет ее голос услышать. Торопливо углубился в ближайший сквер, где потише, дрожайшей рукой набрал номер:
— Аврора! Аврора! — в тревожной радости закричал он. — Не бросай. Умоляю тебя!
А она очень строго:
— Гал Аладович, кто вам дал мой номер?
— Неважно.
— Этот дерьмо Бидаев?
— Нет. Федоров.
— А за что?
— В знак какой-то благодарности.
— Хм, за то, что вы заявление из суда отозвали. Что вы так этого Бидаева боитесь?!
— Ни за что, Аврора. Ни за что мы заявление не отзовем. Хотя, хотя, ты знаешь, Аврора, дважды на сына покушались.
— Ну и что? Дайте сыну нож, купите пистолет и кто подойдет — в лоб. Самооборона.
— Ты что, Аврора?! Мы ведь интеллигентная семья.
— Простите, Гал Аладович, — ее голос смягчился. — Зачем вам эти проблемы? Правильно, что заявление забрали.
— Да не забрали мы заявление, — она молчит. — Как ты?.. Только не отключай. Я прошу тебя. Я люблю тебя, Аврора! Очень, очень люблю! Я не могу без тебя. Скажи хоть слово, — он слышит, он чувствует, что она плачет. — Аврора, Аврора! — закричал уже в отключенный телефон.
Еще с десяток раз он этот номер набирал — «вне зоны». Хмурым он пришел домой, а жена у дверей:
— Что-то сын задерживается.
— Что ты о нем печешься? — заорал муж. — Взрослый дылда, двадцать лет. Дадим нож, пистолет — пусть стреляет всех, кто приблизится.
— Ты что несешь?! — возмутилась жена. — Какой пистолет?! Все. Я заявление забрала.
— Что? — застыл на месте потрясенный профессор.
— Что слышал, — отвечает жена. — Ты одного в утробе потерял. Этот единственный, и больше не будет. И я не хочу, чтобы Цанаевы, как Таусовы, были истреблены. Мне героев и патриотов не надо, мне живые дети нужны!
* * *
Как-то незаметно наступила весна. И жизнь Цанаева, как он сам любил говорить, устаканилась. По крайней мере, в семье, вокруг семьи и у него, вроде, все спокойно. Однако это внешнее спокойствие — внутри профессора все кипит и бурлит. Уж кто-кто, а он сам знает, что повел себя неправильно, не по-мужски и, как Аврора определила бы, недостойно. Не смог ударить по столу кулаком, стать хозяином в семье. А когда жена заявление из суда забрала, то получилось, так оно, наверное, и есть, что он тоже Бидаева испугался.
Конечно, можно было бы вновь заявление подать, делопроизводство восстановить, да как пояснил адвокат — в одну реку дважды не входят… Стыдно, стыдно ему перед Авророй. И если мог бы он с нею хоть раз, хотя бы по телефону, поговорить, то он ей многое объяснил бы, и она, может быть, его поняла бы, простила бы и, может быть, по-прежнему стала бы уважать, если не любить. А любит ли он по-прежнему Аврору? Конечно, любит; но не по-прежнему, когда была непонятная для его возраста страсть, чувственность, сила. А теперь как-то иначе — нежнее, теплее, с тревогой и заботой, с давящим пониманием, что все позади, и с искрой надежды, что все впереди, — это лишь после смерти… И тогда накатывает такая тоска, как черная-черная, тяжелая, грозовая туча, и тогда внутри него разыгрывается такая буря, порою ураган, что он даже внешне, даже цветом лица, рук и ногтей темнеет, становится пунцово-фиолетовым. И тогда коллеги по работе и дома спрашивают: «Что с ним? Нормально?» А он отвечает: «Нормально, все хорошо». Хотя понимает, что это шторм, душа кипит, ему воздуха, кислорода не хватает. И он знает, что врачи назовут все это «сердечная недостаточность», но он-то знает, что это душевная недостаточность. Ему недостает ее, ему она очень и очень нужна. И порою становится так тоскливо, так одиноко и уныло, что жить невмоготу. И в этот момент он вспоминает Аврору: а как одиноко ей?! У нее-то никого нет, и при том, за ней пристально следят. Террористкой обозвали, почти нарекли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу