Фургон остановился, двери открылись. Они увидели перед собой окруженное зелеными аллеями и лужайками красивое здание из красного кирпича с белым куполом и увенчивающим его позолоченным флюгером.
Иахин–Воаз и Гретель жмурясь от солнца вышли из фургона, вошли в лечебницу, где их приняли, переодели, обследовали, дали лекарства и определили его в мужское отделение, ее — в женское. Отделения носили имена деревьев. Запах готовящейся еды гулял по коридорам, точно предрекая скорое поражение.
Иахин–Воаз, в пижаме и халате, лежал на своей койке. Стены были кремовые, занавески — бордовые, с желто–голубыми цветами. Вдоль стен выстроился длинный ряд коек. Доходящие до пола окна открывались на лужайку. Солнечный свет мягко ложился на стены и был не такой яркий, как на улице. Воскресный свет. Прекрати сопротивление, и я обойдусь с тобой милостиво, словно говорил свет. Иахин–Воаз задремал.
Лодки подо мной тонут, думал Воаз–Иахин. Машины разбиваются. Проходя мимо какой‑то фермы, он облокотился на ограду и посмотрел в глаза пасущейся козе.
— Ну что? — спросил он козу. — Дай урим или дай туммим.
Коза отвернулась от него. Козы вот отворачиваются, подумал он. Отец должен жить, дабы отец мог умереть. Это уже стало напевом, гнавшим его вперед.
А почему, собственно, я тороплюсь? — думал он. Я не имею отношения к ни его жизни, ни к его смерти. Но чувство нетерпения было необоримо. У него не было ни рюкзака, ни гитары, ничего сдерживающего. Паспорт его был в кармане, когда «Ласточка» пошла ко дну. Только и вещей у него было, что паспорт, да деньги, что он заработал на лайнере, да новая карта, да зубная щетка, да еще одежда. Он шагал по дороге, пытаясь остановить какую‑нибудь машину. Кто на этот раз? — думал он. Мимо проносились, проскакивали, проезжали и тарахтели машины, мотоциклы, фургоны, грузовики.
Возле него притормозил знакомый фургон, который отвез Майну и ее родителей в старый трактир. Большое кроткое лицо водителя высунулось в окно, с вопросительной интонацией произнесло название порта. Воаз–Иахин повторил это название и прибавил: «Да». Водитель открыл дверцу, и он сел внутрь.
Водитель сказал на своем языке:
— Не думаю, что ты говоришь на моем языке.
Воаз–Иахин с улыбкой пожал плечами и покачал головой.
— Я не говорю на вашем языке, — сказал он по–английски.
— Так я и думал, — отозвался водитель, поняв его жест раньше, чем слова. Он кивнул, вздохнул и вернулся к дороге. Несущиеся на него бесчисленные зерна дороги на миг попадали в фокус, прокатывались под колесами и растягивались позади.
— Все равно, — сказал водитель. — Поболтать охота.
— Я знаю это чувство, — сказал Воаз–Иахин, понимая его по голосу, а не по словам. Теперь он говорил уже не по–английски, а на своем языке, и его голос приобрел необходимые модуляции. — Мне тоже охота поболтать.
— Тебе тоже, — кивнул водитель. — Тогда поговорим. Ничуть не хуже множества разговоров, что я вел на своем языке. В конце концов, сколько людей понимают друг друга, даже когда они говорят на одном языке?
— В конце концов, — добавил Воаз–Иахин, — это не первый раз, когда я говорю с кем‑то, кто не понимает того, что я говорю. К тому же сколько людей понимают друг друга, даже когда они говорят на одном языке?
Они посмотрели друг на друга, пожали плечами и одинаково вздернули брови.
— Так оно и есть, — сказал водитель на своем языке.
— Так оно и есть, — сказал Воаз–Иахин на своем.
— Пустое место, — произнес водитель. — Смешно, как об этом подумаешь. Кузов моего фургона полон пустого места. Я привез его из моего города. Но по дороге я несколько раз открывал дверцы. Так то ли это пустое место, которое я привез из города, или там уже набралось других пустых мест? Иной раз задумываешься о таких вещах. Загрузи кузов стульями, — и вопроса бы не возникло. Ведь пространство между стульями всю дорогу останется неизменным. А вот пустое место — дело другое.
Воаз–Иахин кивнул, не поняв ни слова. Он соглашался с одним голосом водителя, таким же большим и кротким, как и все в нем. Ему хотелось беседовать с ним о чем угодно.
— Я принес в жертву свои рисунки, — сказал он и удивился своим собственным словам, хотя их было так приятно произносить. — Я принес в жертву свои рисунки. Я сжег свои рисунки. Что‑то вышло из меня, оставив вместо себя пустое место. Непрестанно я ощущаю в себе необходимость торопиться к чему‑то там, впереди. К чему? Я просто торопящееся пустое место. Отец должен жить, дабы отец мог умереть. А вы отец? Наверняка вы — сын. Любой живой мужчина — сын. Мертвые мужчины — тоже сыновья. И мертвые отцы — сыновья. И конца этому нет.
Читать дальше
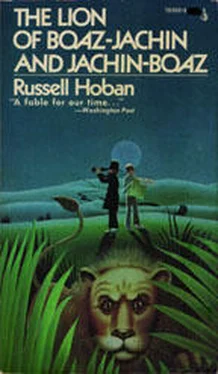

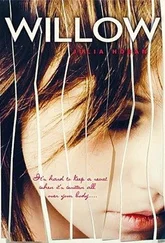



![Рассел Хобан - Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт [litres]](/books/398130/rassel-hoban-lev-boaz-yahinov-i-yahin-thumb.webp)

