И вот когда она наконец должна была кончить, мы услышали какую-то возню у наших дверей. Пришлось оторваться от нее и выглянуть наружу. Пьяный искал свою комнату. Когда немного погодя я снова отправился в путь, чтобы снова остудить свой член еще одной порцией прохладительного, пьянчуга все еще мыкался в поисках. Все фрамуги над дверями были открыты, и оттуда доносилась жуткая какофония, словно имело место явление Иоанна, едока акрид. Когда я снова предстал перед строгим судом, мне показалось, что член сделан из заскорузлой изоляционной ленты. И ощущение было такое же, резиновое: как проталкивать кусок застывшего жира в дренажную трубку. Больше того: никаких других зарядов у батареи не осталось, и если б она сейчас выпалила, то только чем-то вроде желчи, или червей, или капель гноя. При этом он у меня стоял, крепкий, как молоток, но в то же время потерял все признаки инструмента для секса, выглядел омерзительно, словно дешевое дрянцо из десятицентовых лавочек, как раскрашенный рыболовный крючок. И на этой яркой блестящей дряни угрем извивалась Мара. В пароксизме страсти она перестала быть женщиной; это была масса каких-то не поддающихся определению, судорожно дергающихся, корчащихся контуров: так выглядит на рыбий взгляд кусок свежей наживки в перевернутом выпуклом зеркале волнующегося моря.
Меня уже не интересовали ее извивы, весь я, за исключением той моей части, что находилась в ней, был холодным, как огурец, и далеким, как Полярная звезда. Все это воспринималось мной как дошедшее издалека сообщение о смерти человека, о ком и думать позабыл давным-давно. Мне лишь оставалось уныло ждать того невероятно запаздывающего взрыва влажных звезд, которые осыпятся на дно ее утробы дохлыми улитками.
Ближе к рассвету, по точному восточному времени, по застывшей гримасе вокруг ее принявшего цвет сгущенного молока рта я понял, что это произошло. Лицо ее пережило все метаморфозы прежней, внутриутробной, жизни, но только в обратном порядке: последний проблеск погас, и лицо опало, словно проколотый воздушный шарик; глаза и ноздри потемнели, как задымленные желуди, на пошедшей легкими морщинами коже. Я отвалился от нее и сразу же нырнул в кому, кончившуюся лишь к вечеру вместе со стуком в дверь и свежими полотенцами. Я взглянул в окно и увидел скопище битумных крыш, усеянных там и сям темно-сизыми голубями. От океана катился рокот прибоя, а здесь его встречала металлическая симфония разъяренных сковородок и противней, остуженных дождем лишь до ста тридцати девяти градусов по Цельсию. Гостиница гудела и жужжала подобно огромной жирной мухе, издыхающей где-то в глухом сосняке. А по оси коридора между тем произошли новые изменения, сдвиги и перекосы. Сектор А, тот, что находился слева, оказался закрытым, заколоченным, похожим на те огромные купальни вдоль пляжных променадов, которые с окончанием сезона сворачиваются сами собой и испускают последние вздохи сквозь бесчисленные щели и трещины. Другой, безымянный, мир справа был уже размолочен тяжеленной кувалдой; несомненно, здесь поработал некий маньяк, который стремился оправдать свое существование такой усердной поденщиной. Под ногами было слякотно и скользко, словно армия непросохших тюленей весь день сновала в ванную и из ванной. Открытые там и сям двери позволяли любоваться неуклюжей грацией дебелых русалок, мучительно втискивавших могучие шары молочных желез в тонкие рыбацкие сети из стеклянного волокна и полосок влажной глины. Последняя роза лета угасала, превращаясь в разбухшее вымя с руками и ногами. Скоро эпидемия кончится, и океан снова обретет свое студенистое великолепие, вязкое, желатиновое достоинство, отрешенное и озлобленное одиночество.
Мы вытянулись с подветренной стороны макадамового шоссе 40, в углублении гноящейся песчаной дюны, рядом с остро пахнущими зарослями. А по шоссе катили сеятели прогресса и просвещения с тем привычным успокаивающим тарахтением, которое всегда сопровождает это мирное передвижение на харкающих и попердывающих хреновинах, плодах соитий жестяных коробок с проволокой. Солнце садилось на западе, как положено, но на этот раз без блеска и сияния, на этот раз закат выглядел омерзительно: огромную яркую глазунью заволакивали тучи соплей и мокроты. Это был идеальный фон для любви, такой же как среди аптечных стоек и ярких обложек покетбуков. Я снял туфли и осторожно дотянулся большим пальцем, исполненным нежности, до самой промежности. Мы лежали, закинув руки, она – головой на юг, я – на север. Наши тела отдыхали, плавали, почти не покачиваясь, – две большие ветки, застывшие на поверхности бензинового озера. Гость из Возрождения, наткнись он случайно на нас, решил бы, что нас забросило сюда из картины, изображающей жалкую смерть кого-то из окружения дожа-сибарита. Мы лежали у ног рухнувшего мира, и это был скорее стремительный этюд по перспективе и ракурсам, где наши распростертые тела являли собой забавные детали.
Читать дальше
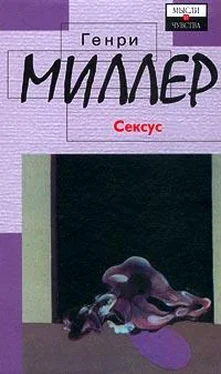






![Генри Миллер - Этот прекрасный мир [сборник]](/books/416436/genri-miller-etot-prekrasnyj-mir-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Мудрость сердца [сборник]](/books/423531/genri-miller-mudrost-serdca-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Замри, как колибри [сборник]](/books/423532/genri-miller-zamri-kak-kolibri-sbornik-thumb.webp)