Полный тоски по городу, который я покидал, я вошел в дом моих родителей, увидев остатки субботних свечей, еще тлеющих в двух старинных серебряных подсвечниках, стоящих, как обычно, по разным концам стола, который в недалеком прошлом был окружен пятью стульями, включая высокое креслице Шиви. Но этим вечером стол снова вернулся к тому виду, который имел в то время, когда я был еще холостяком — три стула, напротив которых на столе знакомые мне по прошлым годам бледно-синие, довольно унылого вида тарелки.
Я пребывал в известном напряжении ввиду предчувствуемой встречи, зная, что и родители боятся ее из-за накопившихся в их сердцах претензий ко мне. Поскольку они до конца не были уверены, что я сдержу свое обещание и приеду автобусом, моя задержка добавила им тревоги, которая и без того постоянно висела в воздухе со времени отъезда Микаэлы и Шиви. Хотя первое извещение о том, что они благополучно приземлились в Индии, уже было зафиксировано на автоответчике, оно было слишком кратким, чтобы удовлетворить моего отца, который беспокоился обо всем касавшемся Шиви больше, чем мать. Будучи человеком застенчивым и скромным, он никогда не перекладывал возникающих проблем на ее плечи и не усложнял ничью жизнь своими чувствами. И тем не менее с рождением Шиви в его сердце поселилась постоянная тревога за нее, которая приобрела вид глубоко скрытой и несвойственной ему агрессии, направленной против меня, особенно после бездумного, как ему казалось, разрешения увезти любимую его крошечную внучку в это безответственное путешествие. И хотя моя мать — которую никто бы не назвал человеком излишне эмоциональным и чье отношение к Микаэле и Шиви было всегда прозаичным и уравновешенным, не раз и не два пыталась отвлечь его мысли от подобных тревог, взывая к его трезвому уму и прибегая к доводам логики, успеха она не достигла. Уныние и депрессия, обрушившиеся на нее после моего столь поразившего ее признания, суть которого она любой ценой решила утаить от моего отца, похоже, удерживали ее и от попытки прийти мне на помощь по той простой причине, о которой сейчас я раз за разом пытался убедить моего отца — что Микаэла была вправе увезти своего ребенка туда, куда она считала нужным, включая Индию. Но этот аргумент не в состоянии был рассеять мрачную атмосферу вокруг обеденного стола. Ни сдержанность, присущая моим родителям, ни хорошие манеры, ни обязательное чувство юмора — черта, неотъемлемая от характера истинного англичанина по праву первородства, — ничто не могло эту атмосферу рассеять.
Особенно тревожил меня совершенно новый феномен — моя мать последовательно и непреклонно не желала встречаться со мной взглядом. Даже обращаясь ко мне, она отворачивала голову, глядя куда-то в сторону. Она еще не знала, что моя любовь была отвергнута и не сулила мне отныне ничего, кроме страданий. Встречаясь взглядом с отцом, который встречал его бестрепетно и открыто в абсолютном молчании, я с горечью думал о несправедливости всего этого. Когда я упрекнул его за то, что он не ответил на мой вопрос, он признался с извиняющейся улыбкой, что не может думать ни о чем, кроме Шиви и того, что с нею происходит в Индии: что она ест, где она спит…
— Перестань изводить себя, — сказал я ему. — Ничего плохого с ней не происходит. У Микаэлы есть особый талант находить безопасный выход из самых сомнительных ситуаций. — Отец слушал меня и кивал. Но успокоенным не казался.
В конце нашей трапезы он попросил мать помочь ему найти его талес, поскольку выяснилось, что старый привратник на его работе пригласил всех сотрудников на празднование бармицвы его внука, которое должно было состояться завтра в синагоге, расположенной в одном из новых пригородов, выросших в последнее время вокруг города.
— Ты что, и в самом деле собрался тащиться туда? — в изумлении спросила мать. — Что ты там потерял? Я уверена, что на самом деле никто не ожидает, что ты придешь.
Но отец настаивал на своем. Он был убежден, что приглашение шло от всей души. Этому простому человеку было важно, чтобы мой отец удостоил бар-мицву его внука своим присутствием. С несвойственным ей пылом мать пыталась отца отговорить. И тут странная мысль пришла мне в голову — она боялась остаться одна! Наедине со мной остаться дома, после того, как я вовлек ее против ее воли в историю моей любви. Которая, по-видимому, до сих пор наполняла ее негодованием и шокировала до глубины души.
Это явилось причиной, почему, несмотря на страшную усталость — результат всех моих бессонных ночей, — я решил избавить моих родителей от своего присутствия и вскоре после ужина, взяв машину отца, отправился навестить Эйаля, которого я не видел уже тысячу лет. Он и его жена перебрались жить к матери Эйаля, которой становилось все хуже и хуже. И хотя я знал, что совместная жизнь со старым и больным человеком дастся Хадас нелегко, тот факт, что это избавляло их от необходимых расходов на квартиру, мог примирить Хадас с неудобствами. Хадас, открывшая дверь, тут же принялась целовать меня с необыкновенной теплотой, поминутно спрашивая, нет ли каких-либо новостей от моей, как она ее называла, «индийской леди». Эйаль, судя по всему, задержался в больнице, и Хадас собиралась вскоре заехать за ним на машине. А пока что мы сплетничали. Хадас заметно прибавила в весе и выглядела умиротворенной и довольной; похоже, семейная жизнь нравилась ей. Мы говорили о Микаэле и об Индии.
Читать дальше
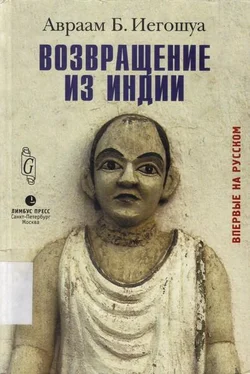

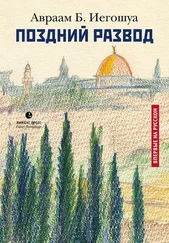

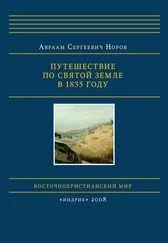



![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)


