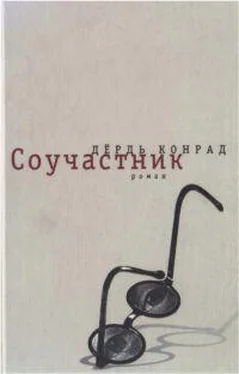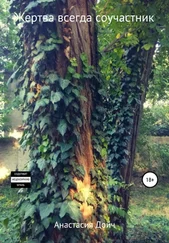Мужчины — в окопах, в плену или в земле, женщины без них — слабее, уступчивее, под низко надвинутыми на глаза платками с севшими на них снежинками — жар неизрасходованной ласки, жар, который надо только раздуть. С солдатами трудовых батальонов они были мягче, чем с обычными солдатами: мы ведь не хватались за кобуру, мы лишь смотрели на них блестящими собачьими глазами, в которых была мольба о куске хлеба; а когда мы тянули наши худые, покрасневшие руке к печке, они сами стелили нам в тепле, рядом с собой. Военная зима, с порхающими снежными хлопьями и свинцовыми пулями, заставляла нас придвигать друг к другу наши холодные ноги; на беднягу, который вскрикивает во сне, а весу в нем всего килограммов пятьдесят, хозяйка без всяких просьб положит тяжелое свое колено.
С нашей свадебной ночью все было как надо. Нина раздобыла где-то немного сала, у нее нашлись сушеные грибы и немного ежевичной водки, которую мы выпили, смешав с горячим медовым чаем. «Давай, что ли, отдыхать, — сказала она, расстегивая на мне рубаху. — Ты уж не серчай, — оправдывалась она, — я немного чумазая, для себя одной баню топить неохота». Я не серчал, я и сам был чумазый, куда чумазее, чем Нина. Она устроилась сверху, едва не раздавив меня; отдыхали мы долго и хорошо; чтобы не понести, она подмывалась уксусом. Все, что требуется, Нина получила от природы в изобилии, пальцы мои проделали большой путь, пока от губ ее добрались до лона. Ее икры были толще моих бедер; рядом с ее широким телом я чувствовал себя школьником, которому неведомо за что достался щедрый подарок. Когда мы сидели с ней рядком в банном пару, бледно-лиловые в свете тележного фонаря, она охлопывала себя так благодушно, будто собственную корову гладила. Убожество человечества было бы не таким вопиющим, думал я, если бы мы вернулись к матриархату.
Радостное изумление наше было обоюдным; мало-помалу выяснилось, что мужа ее в любви очень даже испортил патриархат: напившись, немного поблеяв и потеревшись о нее раз-другой, он уже был готов и утыкался головой в пушистую ее подмышку. Пускай в постели он был не ахти каким бойцом, Нина все-таки долго по нему ревела. Он служил истопником в местной школе: дрова колол, золу чистил; грудь у него была слабая, плохо выносил он угольный газ. Возле леса у них была небольшая пасека с плетеными ульями; раз, возвращаясь домой, он попал под дождь, простудился, но лечь в постель отказался. Под моросящим дождем еще лук, картошку копал; перед самой войной унесло его воспаление легких. Стала Нина теперь мне женой: стирала на меня, штопала, кормила, ласкала, заправляла душу мне топливом любви человеческой. Когда, сидя с ней рядом, я клал руку на ее широкое плечо, я чувствовал себя почти настоящим мужчиной. Особенно хорошо было вечерами: мы устраивались с ней за столом, ели гречневую кашу, приправленную жареным луком, заедали ржаным хлебом, обмакивая его в сурепное масло, и запивали терновой или брусничной водкой. Вот так иные горемыки из трудовых батальонов — те, кто оказался удачливее других, — получали лишний шанс выжить. Если случалось им на зиму найти себе жену или хоть какое-никакое женское тепло, они упорнее держались за жизнь, не торопились опускать руки, с большей надеждой на возвращение выцарапывали домашние имена на узеньких, покрытых морозными узорами стеклах белорусских и украинских хат.
Вечером, перед тем как лечь, Нина прикладывалась губами к темному лику Марии в серебряном окладе, прося у нее милости, и потом, с просветленной душой, укладывалась рядом со мной. Пресвятая дева, как правило, соглашалась с ее нехитрыми пожеланиями; Нина, чтобы я не особенно иронизировал над ней, предпочитала сама себя высмеять, но осторожно-суеверные религиозные воззрения ее часто вырывались у нее в чистом виде. «В этой земной жизни столько свинства намешано, что, по мне, лучше уж верить, чем не верить. Коли хочешь добра для души своей, бойся Бога и люби Пресвятую деву. Не скажу, что рай есть: никто еще оттуда не возвращался. Правда, мужик мой, вскорости после того, как помер, пришел ко мне как-то, постоял в ногах кровати, поплакал, все меня с собой звал. Я ему говорю: я ведь за тобой столько дней и ночей ухаживала, теперь вот одна осталась, тоскливо мне в пустом доме, места я себе не нахожу, но пока, Васенька, миленький мой, уж не обессудь, неохота мне за тобой. А он все-то никак со мной не хочет расстаться, даже хитрить стал, иной раз у погоста мне явится, в виде пара от земли, и уговаривает проводить его хоть немножечко, хоть до соседней деревни. Ну вот, опять ты меня прогулял, сердечный мой, говорю я ему; так мы с муженьком моим, царство ему небесное, и встречаемся».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу