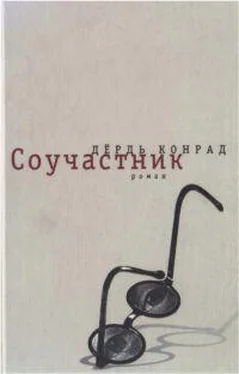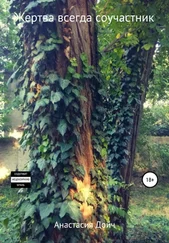Вот так и случилось, что нас с братом, два цветка в метафизическом океане, выловил, чтобы потихоньку положить на подушку спящей суженой, не дядя Ботонд: ему, бедняге, достались лишь песни Шуберта. От этих песен, однако, он так расчувствовался, что после того, как захлопнулась крышка пианино, долго тискал матушкину руку, а матушка, тоже немного размякшая от аплодисментов, от вина, от воспоминаний, не торопилась отнимать у верного Ботонда свои нервные, экзальтированные пальцы. Отец к тому времени основательно набрался; он сам ходил, что-то напевая себе под нос, в погреб, наполнять новые фляги, а что оставалось в мерной колбе, выливал себе в рот — для того, может быть, чтобы пьяным своим остроумием немного развеселить жену, которая в те времена все чаще плакала, отстраненно держа в руке книгу с заложенным между страницами безымянным пальцем. Поэтому, выбравшись с тремя флягами из погреба, отец, увидев их сплетенные руки, одним прыжком оказался возле них и стал поливать фурминтом редеющие волосы Ботонда. И даже предложил своему закадычному другу дуэль: «Вот что: давай выстрелим друг другу в живот! Разве эта божественная женщина не стоит такой жертвы?» Хотя былые дуэли поминались в окрестностях лишь в шутку, в отставном коменданте конезавода отец нашел достойного соперника. Ботонд встал, тремя пальцами поправил пышный узел галстука-бабочки, протер глаза, в которые попало вино, и сказал лишь: «Если случится так, что я тебя убью, обещаю усыновить твоих детей». Он поцеловал матушке руку, поклонился гостям и удалился. Отца, который на дуэли ухитрился каким-то образом попасть Ботонду в левую ягодицу, мы с братом ездили навещать в Будапешт, в государственную тюрьму, где много лет спустя и брат, и я провели несколько тягостных месяцев. А в те старые добрые времена на третьем этаже еще держали несколько камер, чтобы арестантам из господского сословия было где отсидеть за подобные шалости месяц-другой. Мы знали, что отец не слишком страдает в заточении: ему позволили взять с собой в камеру матрац и кресло, питание ему доставляли из ближайшего ресторана, в углу стоял целый ящик винных бутылок — и тем не менее он чуть с ума не сходил от скуки. Нам дали разрешение навестить его, и в один прекрасный день мы с гордым видом прошли по тюремному коридору между двумя надзирателями; я тогда уже состоял в подпольной студенческой коммунистической организации и знал: если меня схватят, не будет ни вина, ни кресла — только ходьба из угла в угол с утра до вечера.
Но папаша наш, который в искусстве воздержания никогда не преуспевал настолько, чтобы в женских собраниях различных конфессий, существующих в нашем городке, не фигурировать в качестве главного блюда едва ли не в каждом меню сплетен, от которых дамы содрогались и закатывали глаза, — словом, папаша и сейчас блистательно соответствовал тем представлениям, которые сложились о нем в обществе. Перед его дверью стоял часовой с устрашающими усами-пиками и со штыком. И — разрешение, не разрешение — пускать нас он категорически отказался. Я грозил устроить скандал, жаловаться госсекретарям; что это такое: стерегут человека так, словно он коммунист-террорист, а не добропорядочный человек, всего лишь пытавшийся защитить свою честь; мы сейчас же идем к коменданту — и мы с самым решительным видом двинулись прочь. Тут часовой дрогнул: не извольте сердиться, не извольте никуда ходить, дело в том, что у барина в гостях дама. Возможно, двадцать лет спустя я вспомнил как раз папашу, когда на том же самом этаже той же самой тюрьмы сказал врачу политической полиции: «Не так уж и плоха была бы эта тюрьма, если бы сюда несколько бутылок мускатного да бабенку кило на семьдесят, с розовым задом, с чайной розой в зубах и с черным цилиндром на голове». «Почему именно с чайной розой и цилиндром?» — завертел птичьей головой врач. Ну, папаша! Такого даже мы от него не ожидали. Брат скорчился от смеха, на что изнутри раздался стук и отец наш, весьма дороживший своим достоинством, крикнул: «Эй, сынок, — он имел в виду с любопытством заглядывавшего в камеру стража, — скажи этим соплякам, чтоб не хихикали у меня! Пускай лучше выпьют по бокалу вина за мое здоровье, о котором вот и барышня может свидетельствовать». И он протянул нам через окошечко в окованной железом двери два стакана с вином, бутылку же с остатком сунул в руки стражу: «А это, сынок, выпей сам». Затем в окошечке на мгновение мелькнуло женское лицо с большим ртом и рыжими волосами. Девица была веснушчатой, даже, кажется, с усиками, на голове ее была высокая шляпа, в зубах — роза; она показала нам мясистый язык. «Господи боже! — воскликнул я, едва не падая. — Какие усики! Я от них с ума сойду!» Девица ухмыльнулась и исчезла, а в окошечке возникла та непостижимая, широкая дьявольская рожа, на которой не всегда можно было понять, что сейчас последует: взрыв хохота или апоплексический удар. «Я тоже с ума схожу, осел! Ну, увидели, жив я, и хватит с вас! Окажите честь еще раз завтра после обеда!» На набережной Дуная брат упал на скамейку, вытянул длинные ноги; его сотрясал беззвучный хохот. У него даже слезы выступили; лишь через некоторое время я обнаружил, что он скорее плачет, чем смеется. «Матушка больна раком, к тому же украла у директора больницы золотые часы. Ей жить осталось самое большее год, так сказал врач, когда я ему возвращал часы. А этого бабника, этого дуэлянта несчастного через две недели после матушкиных похорон удар хватит на такой вот усатой курве». Он ошибся, удар отца не хватил. А я спустя две недели после похорон матери несколько дней кряду, в полном безмолвии, просидел в темной, окнами во двор, уставленной фарфоровыми безделушками квартире той самой девицы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу