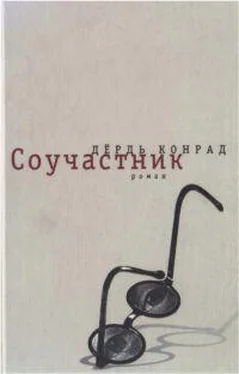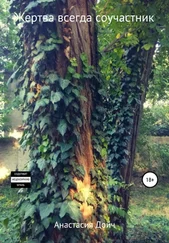18
Напевая, приходит с туеском лесной земляники широкоскулая мельничиха; в деревне говорят, что она родилась с зубами, и почитают ведуньей. Кашель она лечит таинственной травой шандрой, раны посыпает коричневой пылью из перезревших грибов-дожде-виков; на заре она нагишом катается по росе, потом идет на бахчу и сидит там, чтобы дыни росли большие, как ее зад. Служанка-валашка рассказывала: мельничиха поймала ласточку, вырвала у нее сердце и съела его, чтобы отец мой ни с кем не хотел спать, только с ней. Мы с отцом впервые услышали о ней, когда были вместе. Отец на горном пастбище свистнул знакомым собакам, которые стерегли овец в кошаре; потом, у костра, пастухи рассказали нам, что приключилось с одним самонадеянным медведем-бродягой, когда он встретился с мельничихой. Медведь тот после зимней спячки выбрался из своей берлоги, наткнулся на какую-то старуху и, изголодавшись за долгую зиму, взял и сожрал ее. А уж коли на первую трапезу зверю достанется человечина, значит, до следующей зимы должен он человечьим мясом питаться. Мужики устраивали засады, ждали людоеда с прислоненным к колену ружьем, привязанный к дереву барашек всю ночь блеял призывно, умный зверь бродил поблизости, хрустел ветками, но ближе так и не подошел. Только ненадолго хватило ему ума: на лесной тропинке встретил он мельничиху и напал на нее, а та не будь дура, схватила корзину с мамалыгой, которую несла на плече, и надела ее вставшему на дыбы медведю на голову. Ослепший разбойник только топтался бестолково, как цирковой силач, когда залепят ему физиономию кремовым тортом. Вместе с отцом мы и отправились посмотреть на эту необыкновенную женщину; она встретила нас с кашей на меду. «Да ведь такую кашу на свадьбах подают», — сказал отец. Мельничиха только усмехнулась в ответ; ночевать мы остались у нее, отцу она постелила рядом с собой. Я видел: когда он откинулся на постели, мельничиха быстро перевернула под его головой подушку. «Отец у меня — человек ветреный», — сказал я ей на другой день; «Ничего, я его оседлаю», — ответила она с ласковой мрачностью. «А правда, что ты, если свистнешь, взбесившуюся лошадь можешь остановить?» «Может, не такая она и бешеная, та лошадь», — сказала она уклончиво. На третий день отец к ней вернулся; с тех пор, даже если она, готовя обед, выбегала в огород за корзиной фасоли, отец шел за ней, словно теленок за матерью. Однажды ночью кто-то вонзил мельничихе нож под сердце; я сам видел: нож покачивался над окровавленной рубашкой, как маятник. Через месяц-два она поднялась на ноги — и не только жандарму, но даже и отцу моему не сказала, кто оставил в ее груди свой нож; правда, вся деревня и так догадывалась, в чем дело. А мельника, который из суеверного страха перед женой сбежал куда-то, через некоторое время нашли вниз лицом в ручье, в котором и воды-то было по колено; на голове у него сидела большая белая бабочка.
19
Было раннее лето; однажды вечером на виноградной горе, где у нас стоял летний дом, брат мой с иронической гримасой на лице аккомпанировал пению матери; тонкие пальцы его с проворством фокусника танцевали по клавишам пианино. Ни отец, ни мы с братом не настаивали на этом представлении; это дядя Ботонд, романтик и простофиля, не мог угомониться, убеждая гостей, осоловевших в темно-синем бархатном вечере от аромата сирени и фурминта десятилетней выдержки, что в такой час ничего не придумать лучше, чем песни Шуберта в матушкином исполнении. Дядя Ботонд понятия не имел о том, что у матушки осталась только одна грудь и что ей прописана лучевая терапия. Дядя Ботонд помнил только, что давным-давно, когда еще и брат, и я были лишь цветами, плавающими в бескрайнем океане метафизической субстанции, он, Ботонд, состоятельный помещик и комендант приписанного к армии конезавода, бравый офицер, лысеющий, но еще мускулистый и с ног до головы порядочный, в преддверии бала, устраиваемого расквартированным в городе артиллерийским полком, — предложил нашей будущей матушке руку и сердце и, главное, на свои мужественные мольбы обменяться кольцами получил легкомысленное «да». За солидное подношение он узнал у матушкиной швеи, что на его избраннице будет ультрамариновое бальное платье из атласного шелка, и по этому случаю велел парадный зал в ратуше задрапировать тканью такого же цвета. Ботонд ст ал жертвой головокружения от успехов: влажно блестя карими глазами, он взял у матушки, королевы бала, обещание, что она просидит с ним весь полуночный чардаш, который длится целый час, и, кто бы ни приглашал ее, не пойдет танцевать. Взамен он, слегка раскисший от вина, гладил своими усами, распространяющими благоухание специального средства для усов, матушкино запястье, — надо сказать, он мог бы поискать магию и поэффективнее. Матушка сидела, сидела, мило отвергая одного за другим подкатывавшихся к ней лейтенантиков, но мало-помалу бес вселялся в нее, и, когда перед ней опустился на колено мой неотразимый отец, барышня сказала: «Если пообещаете на мне жениться, так и быть, пойду с вами танцевать». Мой бородатый отец, покупавший на банковские кредиты леса и строивший узкоколейку в горах, раздумывал недолго: «Ладно, милая, вы — моя жена». Одетая в вечернее платье, вырезанное до границы приличий, матушка до этой самой границы и покраснела.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу