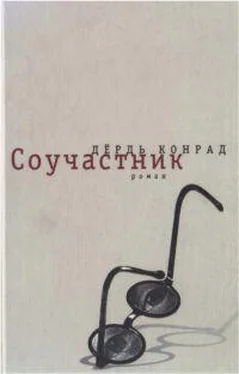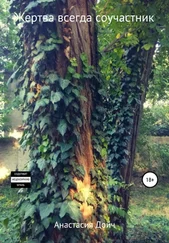32
Некогда коммунист, я стал антиполитиком; мне уже не нужны ни власть, ни антивласть. Продумывая свои проигранные партии, я не склонен себя корить; но все-таки странно: вместо того, что есть, я чаще всего предлагал что-то такое, о чем не знал почти ничего. Товар мой мне был знаком хуже, чем продавцу кота в мешке: тот хотя бы видел кота, прежде чем засунул его в мешок. До сих пор все, что я предпринимал — в защиту режима или против него, — подвергало риску жизнь других людей. Хорошо, что я уже ни солдат, ни революционер, ни политзэк, ни министр, ни ученый-обществовед, ни активист оппозиции, который с гордостью высказывает в Будапеште то, что в Вене скучно было бы и написать. Режим этот — прочен, у меня хватит времени согреть в нем место себе, я — тоже существо прочное. Кое-как я выкарабкался из своих кривд, но не обрел своей правды. Не знаю в своей среде ни героев, ни гениев, ни святых; мы — неудавшиеся эксперименты: с теми, кто это о себе знает, мне довольно легко, они более вежливы, да и юмор у них лучше. Я испробовал все — и не хочу ничего начинать заново, я один, и пусть происходит то, что еще может произойти. Эту сигарету можно загасить, этот железнодорожный билет можно выбросить; я не хочу, чтобы вы оказались в моей шкуре. Я и на товарищей своих смотрю, как на деревья: жизнь их выросла ровно на столько же. Я наблюдаю, как старуха моет окно, разговаривает со своей кошкой, следит за облаками; в маленькой своей квартирке она управляется, как может; кто я такой, чтобы судить ее? Хорошо, что среди моих друзей никто не думает так же, как я. Каждый, пока состарится, медленным и упорным трудом соорудит себе какую-никакую религию.
Что за жалкая, унылая жизнь, государственная болезнь, скука! Как легко состариться, смирившись: мол, все равно ничего не получится, — и убогие свои обиды лицемерно возведя в ранг мировых скорбей! О, подходящая стратегия у нас найдется всегда! Мы не ленимся советоваться со всемирной историей: врать нынче утром или, может, не надо? Сколько сентиментальных объяснений существует насчет разумных границ порядочности! Значительную часть своего времени ты размышляешь над тем, над чем и размышлять-то нет смысла: государство тем лучше, чем реже ты должен его замечать. Не замечать свое государство у тебя все равно не получится; оно — как низкая притолока: попробуешь распрямиться — и тут же стукнешься лбом. Вы с ним неизлечимо больны друг другом: оно — как смертельно надоевшая жена, которая не дает ни на миг забыть о себе, ей страшно, что, стоит ей закрыть рот, как ее и самой не станет. Государство постоянно норовит встать у тебя на пути, постоянно жужжит в уши, всей массой наваливается на тебя, а ты, лицом к лицу с государством, внутри государства, внутри его душного лона, борясь с тошнотой, произносишь, словно спасительную истину, двухсотлетние прописи либерализма.
Мирные времена. У стен — чуткие уши, они фиксируют даже твои любовные вздохи. Свои мнения ты спокойно можешь высказывать дома, по телефону, в письмах: кому надо, те и так их знают. Если тебе по секрету нужно сообщить что-нибудь жене, ты пишешь записку и, после того как жена прочтет, рвешь бумажку на мелкие лоскутки. Подобная переписка — даже когда вы сидите, обнявшись, — придает общению вкус и интимность студенческих, гимназических любовей. Телевизионную камеру в твоем кабинете еще не установили; все написанное ты прячешь в нескольких тайниках вне квартиры. Ты не спрашиваешь друга, от кого он слышал то, что тебе сообщает, кто ему дал такую-то книгу или рукопись. Собираясь поделиться с ним информацией, ты зовешь его прогуляться в лес или на шумную улицу. Когда кто-то задает тебе странные вопросы или делает слишком смелые предложения, ты без лишних разговоров выставляешь его за дверь. Садясь за руль, ты не пьешь ни капли спиртного; остерегаешься любых нарушений общественного порядка: такое ухарство — не для тебя. Повседневная дисциплина; ничего, можно привыкнуть. Провожая гостей, замечаешь: в машине на противоположной стороне улицы светятся угольки горящих сигарет.
33
Ты можешь эмигрировать — и со все более отстраненной улыбкой следить издали за патетической суетой восточноевропейской интеллигенции. Читать эзоповы обороты в письмах друзей, насмешливо выслушивать конспиративные их сообщения; как правило, они чего-нибудь у тебя просят. Толковать о своих трудностях новым друзьям, которые понимают все это не намного лучше, чем если бы ты жаловался, как трудно добывать огонь трением друг о друга двух камешков. Тебе бы стали немного скучны судьбоносные проблемы, волнующие знакомых на родине: получат они загранпаспорт или не получат, кто кому написал апелляцию, кто у кого получил аудиенцию? Ты с усмешкой вспоминал бы о публичной роли слухов: ты ведь и сам привык производить селекцию и, обдумав долетевшую до тебя устную информацию, решать, что с ней делать: переиначить, или проигнорировать, или просто передать дальше. Те, кто замешан, те, кто не замешан, — кастрюля одна, и суп в ней будет из всех один. Никто вокруг не стреляет, никто не митингует, все читают одни и те же книги, встречаются на одних и тех же концертах и посольских приемах, но есть чистые, получистые и нечистые.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу