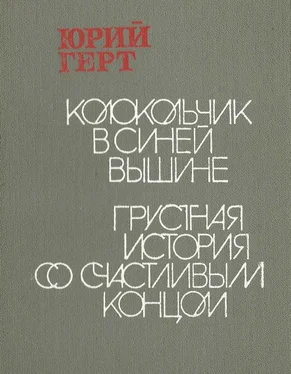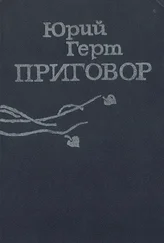Так началось наше... Не придумаю, как назвать... Соревнование?.. Глупо. Соперничество?.. Но какое уж там соперничество — между дядей Петей, с одной стороны, да не только им, а всем его семейством, его многочисленной родней, его дочками — их было три или четыре, и все как на подбор — крепкие, крутобедрые, с литыми икрами, даже война их не подсушила,— это с одной стороны, а с другой?.. С другой — мы с тетей Мусей, бабушка не в счет, слишком стара она была для лопаты с мотыгой, мы ее брали разве что на прополку. Виктор Александрович для огородных дел не годился. Да ведь и тетя Муся — она до того только и знала, что больницу, где столько лет работала медсестрой, операционную, куда и по ночам, бывало, вызывали ее — на «срочные» и «неотложные» — «давать наркоз». Пальцы ее привыкли к шприцам, бинтам, таблеткам... Так что — какое соперничество, между кем и кем?..
Тем не менее на другой день я снова отправился на огород. Едва я проснулся, как мне напомнили о нем взбухшие на ладонях розовые водянки, с трехкопеечную монету каждая, и все мое тело, которое ломило так, словно от зари до зари по нему колотили без передышки бельевым вальком. Вспомнился мне и дядя Петя с его ухмылкой, его ехидным «рукамы робыть, а нэ кныжцы чытать...» Вспомнилась жесткая, скрежещущая под лопатой земля, искрящая на взрезе битым стеклом... Как я ненавидел эту землю! С какой тоской и страхом думал о ней!.. Но что было делать?..
Однако странная история! Едва я пришел на огород, едва увидел вскопанную вчера землю,— не вскопанную, впрочем, если бы вскопанную!..— скорее развороченную, немилосердно искромсанную мной, подсушенную за ночь ветром и теперь какую-то пятнистую, пегую, где будто присыпанную светлым пеплом, где бурую, как затянувший рану рубец,— едва я увидел ее, как чувство не то стыда, не то жалости заскреблось во мне. А глядя в бескрайнее пространство степи, такой гладкой, словно по ней прошелся гигантский рубанок, я — сам не знаю отчего — ощутил в себе какую-то бодрую, ищущую выхода силу... Вокруг стояла ничем не нарушаемая тишина, только низко стлавшийся ветерок чуть слышно посвистывал в сухой траве. На огородах не было ни души. По степи желтой ленточкой уходила к горизонту дорога. Вдоль нее горелыми спичками тянулись телеграфные столбы. По дороге, то и дело пропадая в клубах пыли, юрким жучком бежал грузовик. А небо было таким, что даже воздух, который я вдыхал, казался синим.
Прежде чем взяться за работу, я сбросил пальто (кстати, единственную мою верхнюю одежду — и для школы, и для огорода), скинул куртку, в которых прошлый раз до смерти запарился, и сложил все это в сторонке. Рубашку, правда, я не стал вытаскивать из брюк, но едва я начал копать, как она сама выпросталась и я уже не заправлял се обратно. Я старался не колотить по лопате каблуком, а налегал на закраину подошвой, наваливался всем телом— и в иные мгновенья лопата срасталась со мной, становясь продолженьем руки или ноги. Сырой, аппетитно чмокнувший под лопатой пласт земли я прихлопывал сверху лопатой и тут же разбивал на куски — жест, который я тоже подглядел вчера у дяди Пети. Досадно было, что я что-то у него перенимаю, но главное для меня заключалось в том, чтобы до прихода моего ненавистника если не перегнать, то хотя бы догнать его по размеру вскопанной земли.
И это мне удалось. И удалось загладить следы вчерашнего позора — измельчить, раздробить мотыгой уже затвердевшие комья. О ломоте, о водянках, которые полопались и клочьями кожи сползали с моих ладоней, я забыл. Я ждал дядю Петю, и тихое торжество распирало меня.
Но, появившись под вечер (я издали заметил его сумрачную фигуру, шагавшую по начинавшим заполняться людьми огородам), он только краем глаза зацепил мое поле. Он и на меня взглянул — будто накололся. Будто несказанно удивился, что я еще здесь. Что я вообще существую. И едва кивнул в ответ на мое «здрасть...»
На этот раз он привез тачку. Он складывал в ее дощатый короб камни и мусор, собранные накануне, и отвозил в степь. Глядя на него, я принялся за то же самое, тачку мне заменил порядком прогнивший лист фанеры. Пока я, пыхтя, волок его через огород, он понемногу расползался, устилая свой путь щепками, одновременно таяла и наваленная поверх груда камней, чему я был даже отчасти рад, с каждым таким рейсом все больше выбиваясь из сил.
— Эгей,— крикнул мне дядя Петя издали,— возьми тачку, бо пуп надэрвешь!..
В голосе у него сквозь насмешку мне почудилась жалость. Я промолчал, сделав вид, что не слышу.
Читать дальше