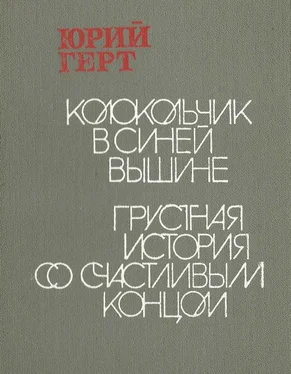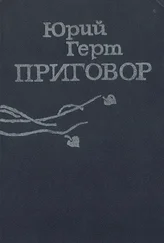И вот они стояли передо мной оба — Левка и Борька... Я смотрел иа них обоих, не менее растерянный, чем они сами, смотрел на Хаю Соломоновну, на ее чудовищную, нелепую шубу,— а она плакала, и мать прижимала к своей груди ее голову, ее лицо, худое, горбоносое, в больших, в черной оправе, очках, и гладила, гладила, гладила, не в силах ни перебить несвязную, разрываемую рыданиями речь, ни слова вставить, ни утешить...
Потому что не в тряпках было дело, не в барахле, хотя и нажитом честным трудом, но все равно — барахле, барахле... Не в нем, сгоревшем во время бомбежки, было дело, нет, нет...
— Яков...— повторяла она,— Яков... Яков...
Яков, Яков Давыдович — так звали ее мужа, отца Левки и Борьки — лучшего, а может быть, попросту единственного в Ливадии детского врача. «Н-н-нус...»— протяжно говорил он, склоняясь надо мной, над приставленным к моей груди стетоскопом. «Н-н-нус...»— и я натренированно разевал рот и высовывал язык. «Тэк-тэкс...»— говорил Яков Давыдович и выписывал рецепт — на капли датского короля, кальцекс или касторку^ Зимою и летом, по-моему — чуть ли даже не на пикнике, на который второго мая в Нижнюю Ореанду выезжала вся Ливадия,— даже там я неизменно видел его в строгом черном костюме, с аккуратно заправленным в жилет галстуком, с белейшими, твердыми от крахмала манжетами — полоска их ровно на толщину спички выглядывала из рукавов. Так же, как над худобой Хаи Соломоновны, отец подшучивал над этим «н-н-нус» и «тэк-тэкс», над этим галстуком и манжетами, над всей несколько чопорной фигурой Якова Давыдовича,— он был остер на язык, мой отец, хотя не помню, чтобы кто-нибудь на него обижался.
Они вместе уезжали в военкомат, в Ялту, в один из первых дней войны — у обоих было в руках по чемоданчику, мы все провожали их, ждали автобуса, и отец посмеивался, осведомляясь у Якова Давыдовича, не забыл ли тот захватить вместе с бритвенными принадлежностями одеколон и манжеты, без которых в сложных фронтовых условиях не обойтись. Яков Давыдович отмалчивался и только улыбался, хотя по виду его, как обычно, вполне респектабельному, можно было полагать, что об одеколоне-то уж он наверняка не забыл.
Спустя недолгое время стало известно, что в отличие от моего отца, направленного военврачом в стрелковую часть, Яков Давыдович служит в Севастополе во флоте. В душе я этому немало завидовал. Флот, да еще Черноморский — для меня это было: броненосец «Потемкин», грозные, во весь экран, жерла дальнобойных, медленно и неотвратимо наводимых орудий, ленточки бескозырок на легком ветру... И тут же — Яков Давыдович, на капитанском мостике, в черной морской форме, с биноклем перед глазами, белая полоска крахмального манжета чуть-чуть выглядывает из-под рукава кителя с золотыми нашивками...
И она повторяла, твердила:
— Яков... Яков...— только это и можно было разобрать в ее несвязной, толчками рвущейся изо рта речи. И не «Яша» или как-нибудь еще, а именно «Яков, Яков...»
— Принеси воды,— сказала мама, и я принес Хае Соломоновне воды в стакане, который колотился об ее длинные желтые зубы, и вода лилась по ее костлявому, острому подбородку, сворачивалась в капельки-бисеринки на рыжем лисьем меху, катилась на паркет. Но постепенно слова возвращались к ней, тут же, впрочем, разрываемые новым пароксизмом, и мать исчерпала свои небогатые возможности, жалкие утешения — в том роде, что все это еще может оказаться неправдой, и главное все-таки дети, ради них, для них она обязана жить и беречь себя — до тех пор, когда вернется Яков Давыдович, когда все вернутся, и кончится войнами будет мир, победа, и все — как раньше... Они плакали обе, и было не понять, кто же кого утешал...
После обеда я повел их во двор, Левку и Борьку,— в наш великолепный, огромный двор, словно нарочно созданный для ребячьих игр. Мы сидели на дощатом крыльце, на верхней ступеньке. Отсюда все было видно и слышно — как посреди двора взмывает в небо, вращаясь пропеллером, «чиж» с заостренными, до бела обструганными концами; как возле старой бани щелкают — костяшка о костяшку — залитые для тяжести свинцом альчики; как у дровяных амбаров, под неумолчное щебетанье девчачьих голосов, крутят веревочку и прыгают на одной ножке, играя «в классики». К нам подбегали — то Геныч, то Вячек, то Борька-Цыган, зазывая в свою компанию: здесь не хватало двоих, там троих... Но гости мои молчали. Молчал и я, несмотря на то, что мне хотелось, чтобы они немного повеселели. Не расспрашивал я их про то, как это случилось, то есть как падали и взрывались бомбы, как горели вагоны... Мне не терпелось услышать об этом, но задавать вопросы я отчего-то не решался.
Читать дальше