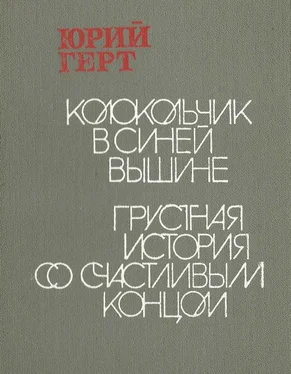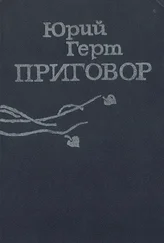Дальше я не мог выдержать. Я вскочил. Меня трясло — от ярости, от бессилия, оттого, что я не в состоянии помешать тому, что происходит! В руках у меня был хлеб и яблоко, к ним я так и не притронулся. Я развернулся — и швырнул их туда, за камень — в них!
Я начал хватать сухие сосновые шишки, они были здесь рассыпаны во множестве. Но шишки показались мне слишком легкими — слишком, слишком!— для тяжелой моей обиды. В неистовстве, накалываясь пальцами на иглы и не чувствуя боли, я разгребал хвою, выцарапывал, выворачивал из земли камни, и они летели туда, где, невидимые, были они!..
Сколько длилась эта бомбардировка? Наверное, недолго. Удивленные, испуганные вскрики послышались из-за валуна. Оба выскочили, отец кинулся ко мне...
Что было потом? В точности не помню. Отец редко, почти никогда не обрушивал на меня свой гнев. Не набросился на меня он и теперь. Наверное, мой вид обескуражил его. За его вопросами — зачем? Разве я не понимаю, что мог бы попасть? Что тогда?.. — скрывалась злобно радующая меня растерянность. «А я и хотел попасть!» — рвалось из меня. На Людмилу Михайловну я не смотрел.
Мы сели на линейку и продолжали путь. Опять-таки не знаю, казалось ли это мне или так было на самом деле, но теперь в редких словах, которыми обменивались они — отец и доктор Любарская — сквозила виноватость, неловкость; когда она обращалась ко мне, я молчал, отцу отвечал нехотя, отчетливо сознавая, что это слишком слабая, мягкая казнь за его предательство. Как мог, я доказывал ему, что между нами больше нет ничего общего, и хотя мне было жаль его — отринутого, отверженного — но мстительная моя справедливость (кстати, взращенная им же самим!) не знала пощады...
Больше мы никого не брали в свои поездки. Мы снова были друзьями, все забылось, загладилось. Однако чуть заметная трещинка, началом своим уводящая в тот несчастливый день, во мне осталась. И осталась навсегда...
Много лет спустя, уже взрослым человеком, я побывал в тех местах, на водопаде Учан-Су. Он показался мне так себе, маленьким, отнюдь не грозным, разве что за неимением лучшего годящимся для туристов: струйка воды, очень милая, домашняя струйка — ни дикого рокота, ни пылевого столба брызг, в котором играет радуга... Впрочем, шла середина лета.
Было тихо, пели птицы, экскурсанты привычно щелка ли фотоаппаратами, жужжала камера. Все выглядело здесь иным, чем в те времена, когда мы с отцом приезжали сюда на санинспекторской линейке, делали привалы... Даже памятный мне валун, покрытый, как плюшем, светло-зеленым, с желтинкой, мхом, словно уменьшился в размерах. Но глядя на него, я — вразрез со своей теперешней зрелостью, опытом и житейской умудренностью — внезапно до боли резко ощутил то самое отчаяние, ту, оказалось, живую до сих пор обиду, которая когда-то заставила меня вскочить, повернуться лицом к валуну и в яростном ожесточении, не помня себя, схватиться за шишки и камни...
МИР ХИЖИНАМ — ВОЙНА ДВОРЦАМ!
Почему наш двор назывался Черным?.. Не знаю. Но в прежние времена здесь наверняка обитала не высокородная аристократия, а мелкая дворцовая челядь, низший, так сказать, обслуживающий персонал. Теперь тут жили работники санаториев, и двор был как все дворы юга: крикливый, чадный, многолюдный, не утихающий с рассвета до темноты. Экскурсанты, восторженные и любопытные, бродившие по всей Ливадии, обмирали перед Большим дворцом, Свитским корпусом, императорскими конюшнями... У нас они не появлялись. Пожалуй, наш двор был единственным местом, которое не представляло исторической ценности.
Однако — лишь на первый взгляд.
Ценности, притом именно исторические, стояли у нас в каждой квартире. Это была царская мебель. Царская — в самом прямом смысле. И у нас в комнате, в одной из двух — той, что попросторней, гостиной,— возле окна располагались два кресла и диван из дворца: красное дерево цвета пьяной вишни, пухлые сиденья, обтянутые золотистой тканью, и на ней — порхающие среди зеленых веточек беспечные пташки.
Сомнительно впрочем, чтобы наша мебель имела музейное значение. Но вполне возможно, что на эти кресла опускались генералы или министры в ожидании высочайшей аудиенции. Возможно, какая-нибудь фрейлина, царская фаворитка, откидывалась на эту диванную спинку, и на утро дворцовый лакей сметал щеточкой с зеленых лепестков и райских крылышек нежнейшую пудру, оставленную касанием хрупких и тонких лопаток. Возможно, и сам император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, сиживал, задумчиво упираясь локтем в одну из таких резных, покрытых лаком ручек... Все возможно. Теперь же эти кресла и диван между ними стояли в нашей квартире с жестяными инвентарными номерами на спинках, и точно такие же номерки были на двух отнюдь не дворцовых койках в спальне, на дощатом топчане, занимавшем полбалкона, на фанерной крашеной тумбочке, которая заменяла матери туалетный столик,— на всей нашей — «не «мебели», как сказали бы теперь, а «обстановке», как называли, и очень верно, все это в те времена. «Обстановка» была казенной, то есть принадлежала санаторию, и менять ее, обзаводиться собственной никому в голову не приходило. Все наши легкомысленные пожитки могли уместиться в средних размеров чемодане.
Читать дальше