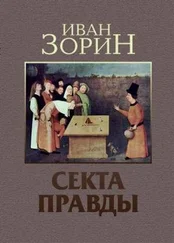А ты, лысый, чего наклонился? Свою жену агукай, урод, и убери слюнявый палец — откушу! А что они талдычат про слабое здоровье? Мерзавцы, я вас всех переживу!
Чу! Принимают решение — пора корчить рожу и плакать, плакать!
Повинуясь порыву, Адам растолкал зевак и взял младенца на руки. Тот пискнул, и на его губах повисла улыбка блудного сына.
Народ стал расходиться.
— Тоже мне, папаши, — бурчала полная дама, разведённая в четвёртый раз, — бросают детей, где попало…
Из-под косынки у неё торчали бигуди.
— Заткнись, дура! — взвизгнул младенец. — Надо было своих кобелей на цепи держать!
Адам оторопел.
— И то верно… — вздохнула дама, и бигуди стали, как свитки, разворачивать печальную повесть напрасно прожитых лет.
— Ещё чего! — отвернулся младенец. — Каждому охота, чтоб его дневничок почитали, но мы, тётя, торопимся…
СТРАНИЦЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НОВОМУ ПОНЕДЕЛЬНИКУ, ИЛИ РОЖДЕНИЕ КОСМОСА
Солнце сияло так, будто в первый раз видело землю, пуская воздушными поцелуями «зайчиков». Адам ввалился со свёртком подмышкой и, разворачивая в прихожей мокрые пелёнки, выдохнул:
— Это мой сын!
Кондратов растерялся:
— А где же мать?
— Дедушка, — оскалился младенец, — я плод непорочного зачатия, моя мать умерла родами — ты заменишь её!
Кондратова передёрнуло. «Этот кукушонок всех из гнезда выбросит», — подумал он, и от этих мыслей у него запотели очки.
— Не дрейфь, — прочитал его страхи новоиспечённый внук, — тебе в богадельню рано, ещё послужишь!
Память трудолюбива, как пчела, и безжалостна, как тюремщик. Она лепит свои соты, расселяя нас по одиночкам, от которых теряет ключи. А Кондратову казалось, что кто-то забирал его воспоминания, и он чувствовал себя голым, будто камень в степи.
— Извини его, — доносился, как в трубу, голос Адама, — ему же надо зубки точить…
И всё встало на свои места. Теперь и Адам строил мир, и его мир столкнулся с миром отца. Если раньше он был частью отцовского мира, то теперь и отец стал частью его мира. В отпочковавшейся вселенной появился другой бог и другой сын. И каждый хищно метил территорию.
— Ты меня не жалоби, — покрикивал на Романа внук, — вы, интеллигенты, как амёбы — беспомощны, но живучи!
«Да-да, — мысленно соглашался Кондратов, которому мир казался теперь простым, как грабли, и злым, как чеснок, — лучше иметь твёрдый шанкр, чем мягкий характер».
Анастасия ходила молчаливая, подчиняясь изменившимся законам, стирала бельё и грела молоко. Она нашла свой угол на задворках новой вселенной. Только раз, вытирая пыль, прошептала, указав тряпкой на спящего ребёнка:
— Но он же не твой!
— Мой, не мой, какая разница? — философски изрёк Адам. — Сын всё равно похож на отца, как «калька» на «гальку».
Бунт был пресечён, и Анастасия в душе радовалась этому.
— Как мы назовём его? — перевела она разговор.
— Космос, — не задумываясь, ответил Адам. — И он искупит нашу вину, ибо все отцы повинны в страданиях детей…

Дело было сразу после войны. Американский лётчик Арчибальд Брэдли, имевший чин полковника и награды за храбрость, получил назначение на военную базу в Италии.
Провинциальный Римини, пыльный и скучный, оставлял только выпивку в набитых солдатами барах, и Брэдли проводил там всё свободное время. Он садился спиной к стойке и, поднимая сведённые, будто для крещения, пальцы, повторял заказ. В Италии ночи душные, положив на стул пилотку, Брэдли расстёгивал верхнюю пуговицу, и наружу лезли седые волосы. Ему было за сорок, и они уже перебежали с груди на шею, слившись с синеющей щетиной. Всю ночь Брэдли дулся в карты: к утру его глаза краснели, а морщины обозначались ещё резче. Тогда, не вынимая сигары, он тяжело вставал и вразвалку тащился на службу, где отсыпался — старшему по званию всё прощали.
Брэдли ненавидел Италию, проклинал её жаркое солнце, а, когда приходилось пить с молоденькими, смуглыми лейтенантами, которые всё время смеялись, оттого что война кончилась, а они остались живы, с особенной силой чувствовал себя стариком. Однако было в нём что-то привлекательное, делавшее его неотразимым для женщин. Их возбуждал его хриплый, прокуренный голос, хищный, с горбинкой нос. Они не могли устоять перед глазами, прозрачными, как озера Пенсильвании, и небольшим, глубоким шрамом на левой щеке, полученным ещё до войны на память о мексиканской границе.
Читать дальше