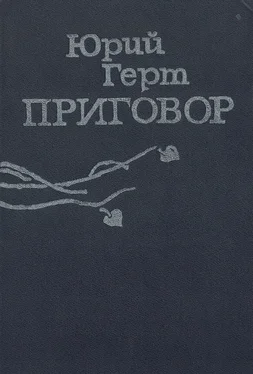— Мне бы не хотелось давать повод считать, что я сгущаю краски. О школе, где был директором товарищ Конкин, мне доводилось слышать немало хорошего. Но факт остается фактом: здесь у ребят не воспитывался дух активного сопротивления мещанству, сопротивления вредным, растлевающим влияниям. И когда ребята сталкивались в жизни с негативными, уродливыми явлениями, они отступали перед ними, подчинялись им — вместо того, чтобы вступить с ними в схватку, объявить им бой. И тогда в души ребят проникал цинизм, сердца их ожесточались, главным законом жизни для них становилась сила, главным желанием — власть над людьми...
7
В коридоре остро пахло валокордином. Николаеву усадили на стул, пододвинули к распахнутому окну, и она сидела, откинувшись на спинку, закрыв глаза. Лицо у нее было покойницки-белым, она не чувствовала, не слышала, о чем говорили вокруг. Слабые стоны ее тонули в бурления множества голосов.
— Невероятно!..— потрясал бородой Вершинин, воздевая вверх сухонькие, в голубых жилах руки.— Требовать ни много ни мало — десять лет колонии!
— И это, заметьте, когда все их доказательства — тьфу! Плюнуть и растереть!..— бушевал Пушкарев.
— Не прокурор — чистая ведьма! — пожимал плечами Ребров.— Она что же, думает, что нет инстанций, которые способны пересмотреть приговор, если он будет вынесен? Но Курдаков — опытный судья, и я не думаю...
— А чего тут думать?—строго, с решительным выражением готовности к немедленному действию, говорил Конкин, окруженный учителями.— Если Федорову — 10 лет, Николаеву — 5, Харитонову — 3 года, то школе... Тут уж не «частное определение» требуется в адрес школы, а... сроки! Да! И мне в первую голову!..
— Это по ее прокурорской логике так выходит! — извилась Людмила Георгиевна, — По ее логике — это мы, учителя, учим их фарцевать и прочими гадостями заниматься!
— Лишить каждого из нас диплома и права преподавания, вот что следует сделать, и немедленно!..— подхватила гневно Жанна Михайловна.— Только не знаю, если уж такие, как Конкин... Кто же тогда детей учить будет? Кто, хотелось бы знать?..
В коридоре было душно, из окон, с обоих концов раскрытых настежь, не доносилось ни дуновения сквозного ветерка — веяло раскаленным асфальтом, выхлопными газами, запахом растопленной смолы...
Федоровых зажали в полукольцо ребята. Они были не слишком шумны и, видно, подавлены речью прокурора, а также требованием Кравцовой привлечь к ответственности некоторых из них, в первую очередь Галину Рыбальченко, поскольку то, что утверждала она в суде, совершенно противоречило тому, о чем она говорила на предварительном следствии.
— Алексей Макарович, Татьяна Андреевна правду сказала, что они не Витьке, они вам, гады, мстят! — напористо говорила Галина. Зрачки у нее были огромные, черные, отчаянные.— И про это надо сообщить, куда следует!
— Верно, Алексей Макарович, мы тут решили — в Верховный суд напишем, там разберутся! Или прямо в ЦК! — Гомон вокруг нарастал, голоса — молодые, резкие — перебивали друг друга, срывались на крик. И особенно рвался в битву, распаляя себя и остальных, Дима Смышляев.
— Погодите, братцы,— сказал Федоров, улыбаясь против воли,— пока это всего лишь речь прокурора, а не приговор...
— Хорошенькое «всего лишь»!..
— Да они все заодно!..
— Сговорились и решили!..
Федоров оглядывался, ища Николаева — тот ушел отыскать адвоката, но Горский куда-то скрылся и не показывался. Вместо того и другого среди знакомых и чужих, но тоже возбужденных до предела лиц, он заметил вдруг нацеленный прямо на него взгляд, иногда заслоняемый чьими-то головами, затылками, спинами, но тут же и выныривающий вновь...
8
Это был все тот же странный человек, с нелепой, вызвавшей в зале смех фамилией — Бесфамильный. Уж он-то меньше, чем кто-нибудь, имел внутреннее касательство к этому делу, он и без того четыре дня являлся в суд, а теперь, дав свои мало что значащие для процесса показания, мог бы и вовсе удалиться. Но он не уходил. Как муха, влипшая всеми шестью лапками в размазанный по блюдечку мед, застрял он сначала в зале, притулясь в уголке и слушая речь прокурора, затем — в коридорной кутерьме. Уши его на лиловом черепе стояли растопыркой, большие, с бледно-матовыми, почти прозрачными хрящами. Все, что слышалось вокруг, словно втекало в отверстые воронки этих ушей и, переработанное под наголо выбритым теменем, изливалось в этом устремленном на Федорова взгляде.
Читать дальше