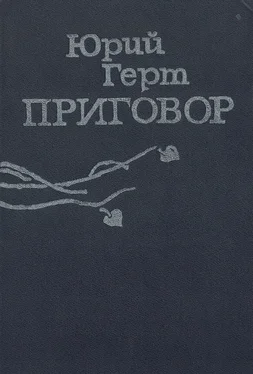— Пап! — теребил он отца.— Ты им покажи! Ты напиши! Ты напечатай!..— И смотрел на него, как в детстве, когда Федоров поднимал его — выше всех! — усадив, наподобие креслица, на свою широкую ладонь.
И Федоров написал. Разумеется, перед этим он вернулся в тот совхоз, прожил там с неделю, разбираясь, что к чему,— работяги во всем оказались правы, обнаружились дела и покрупнее. Материал появился в газете. Витька так ждал его! В таком нетерпении жаждал немедленных решений, переворотов! Их не последовало. Но Федорову стыдно было в этом признаться. — Комиссия,— сказал он.— Там работает комиссия...
— Комиссия...— повторил Виктор.— Коми-и-ис-сия! — протянул он, и на губах у него Федоров, может быть — впервые, увидел тогда косенькую улыбочку, которая в дальнейшем доводила его порой до бешенства. Сын смотрел на него так, будто в ту минуту отец уменьшился в росте, смотрел не снизу вверх, как бывало, а словно бы сверху вниз...
Но сейчас ему вспоминалось другое: змеистые языки пламени, пожиравшие степь, длинная, в обе стороны уходящая цепочка людей, вооруженных таловыми прутьями, кесешки с кумысом и айраном, законченное, счастливое, изнемогающее от усталости лицо сына... Он покачался в своем кресле-качалке, и странно мешалось в голове, что надо бы подняться, пройти в спальню и накрыть получше Татьяну, которая всегда раскрывается во сне; что с вечеря было тепло, а сейчас тянет ветерком, свежим, прохладным, но после жаркого, душного дня до того приятен свежий этот ветерок; и что «Москвич» бежит так ходко, так ловко правит им Эдуард, и такие прозрачные сумерки сеются вокруг, такая луна блистает... Потом осталась только ночь, и луна — не луна, а ночные фонари вдоль улицы и — там, впереди — две шеренги юнцов, словно поджидающих кого-то... Не его... Не его?.. Но в темноте (фонари вдруг погасли) ведь так просто спутать... Он это видел и понимал очень ясно, и понимал, что ему ничего не стоит свернуть, обойти их сторонкой, перейти через дорогу на противоположный тротуар, но что-то его толкало — и он шел вперёд, к этим шеренгам, стоящим одна к другой лицом... И когда он уже миновал и первую, и вторую, и третью, пару, когда близок уже был выход — он увидел выпрыгнувшее из рукоятки узкое остров лезвие и за ним — Виктора...
— Нет!— уже не подумал он во сне, а крикнул наяву, крикнул громко. — Нет, нет, нет!..
Или он выкрикнул это так громко, что разбудил Татьяну, или она не спала до сих нор и до нее долетел его крик, но одновременно с сознанием, что это был только сон, он почувствовал, что она стоит за его спиной и, успокаивая, мягко, нежно гладит по голове.
1
День этот был последним в жизни Федорова, но он, разумеется, не знал, не предчувствовал этого.
Напротив. День этот — четвертый, а считая однодневный перерыв в судебном заседании, понадобившийся, чтобы доставить в суд важного для обвинения свидетеля, то пятый,— являлся, по всей видимости, заключительным, и было достаточно причин, чтобы надеяться на благополучное завершение процесса. К этому все двигалось. Показания свидетелей защиты явно перевешивали, подсудимые твердо стояли на своем, показания свидетелей обвинения складывались в картину, полную противоречий и сомнений, толкуемых, как известно, в пользу обвиняемых (о чем со стариковской запальчивостью твердил Вершинин). Суд вел разбирательство корректно, с безупречной объективностью. Горский в особые объяснения с родителями подзащитных не вступал, предпочитая отмалчиваться с загадочной полуулыбкой на губах, но, судя по всему, был доволен.
К тому же в то утро на столе у Федорова оказалась целая куча писем, несколько он пробежал второпях (пора было ехать в суд), кое-какие сунул в пиджачный карман, прочие оставил до возвращения. А письма были ох какие любопытные. До того любопытные, что он бы, как раньше в подобных случаях, усадил в кресло напротив Татьяну и потер ладони так, что вот-вот между ними затрещат искры, а потом принялся бы читать ей письмо за письмом. Он ведь знал, что Татьяна в душе считает его — ну, не «то чтобы чокнутым, это было бы слишком уж грубо, и не то чтобы современной моделью Дон-Кихота, это было бы слишком романтично, и однако чем-то эдаким она его считает, вместе с его статьями, его газетой, от которых в жизни, огромной, неостановимо текущей, мало что меняется, и если не замечать это в молодости простительно, то в его возрасте как это назвать?.. И потому в такое утро он усадил бы ее напротив и прочел несколько писем — откликов на его последнюю статью. Он знал: блестящий материал порой остается в газете незамеченным — и немудрящая статейка вдруг вызывает шквал, бурю, подобие камнепада в горах...
Читать дальше