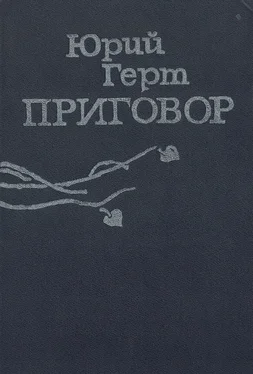Заканчивалась вторая смена. Садилось солнце, стадион в его лучах был розовым — трава, дорожки, опилки на площадке для прыжков. И воздух над полем, окантованным силуэтами городских строений, тоже был розов, искрист. Федорой слышал, каких усилий стоило Конкину отстоять, оставить за школой этот пустырь — после того, как бульдозеры сковырнули здесь последнюю халупу.
И теперь маленький Конкин, в шортах, с волосатыми, пружинистыми ногами, темноволосый, с непокорным хохолком на макушке, с карими веселыми глазами, казался Федорову победителем, Гераклом, раздвинувшим громады напирающих со всех сторон домов, отвоевавшим у камня и бетона этот вольный, живой, слитый с небом простор.
Они говорили довольно долго, Федорова интересовало, почему школа у Конкина — лучшая в городе, и не по формальным показателям — процент успеваемости, количество медалистов и т. д.,— а по гамбургскому, так сказать, счету, который существовал у самих учителей. Но никаких новых методов воспитания Федорову в разговоре с Конкиным не открылось.
— Просто — надо любить детей,— сказал Конкин, видя, что Федоров ему и верит, и не верит.
— И в этом весь секрет?
— В этом.
Они еще поговорили, поспорили немножко, выясняя, что это значит — «любить детей», и он уехал. Это был, кажется, единственный разговор, случившийся между ними... Но все, что впоследствии он слышал о Конкине, располагало к нему.
И вот теперь — в своей «конкинской» школе — он больше не директор, а школа его для всех — та самая, где учеников судят за убийство...
— Они еще ответят!— твердила Людмила Георгиевна.— Улучили момент и сводят счеты. Конкин им — как бельмо па глазу!.. Да рубите мне голову, если наши ребята — преступники! — Она после каждой фразы ударяла кулачком по кожаной спинке, словно ставила восклицательный знак.— Я не адвокат, не прокурор, я учитель, и я лучше знаю своих учеников!..
Зеленые ветки, как дождь, хлестали по оконным стеклам. Народа в автобусе оставалось немного, сиденья опустели. Впереди Федоров заметил странноватого человека — в захудалого вида кургузой, будто вываренной в кубовой краске курточке, с вытянутой, как дыня, досиня выбритой головой. Было что-то и пугливо-настороженное, и озлобленное, и даже надменное в тех взглядах, которые бросал он вокруг. Федорову представилось, что он недавно из заключения, и, глядя на его лиловую голову с оттопыренными ушами, Федоров пытался вообразить Виктора — бритого, в тюремной робе, за колючей, оплетающей зону проволокой...
4
На одной из остановок в автобус — не вошли, скорее ворвались, вломились несколько ребят, громко переговариваясь и толкая друг друга. Это были одноклассники Виктора. Федоров знал только двоих —Галину Рыбальченко и Диму Смышляева, который в прошлом году приходил к ним домой, и не к Виктору, а к нему, «для важного разговора», как сообщил он предварительно по телефону... И то ли оттого, что сразу возникло столько юных, свежих лиц, и среди них — Галина в какой-то вызывающе-яркой кофточке, то ли оттого, что все это были товарищи Виктора, в автобусе стало светлее, и в маслянистом от бензина воздухе будто пахнуло озоном.
Ребята столпились было на задней площадке, но увидели Людмилу Георгиевну и секунду спустя стояли возле нее и сидевших рядом Федоровых.
— Ох, стервецы!— притворно-сердитым голосом напустилась на ребят Людмила Георгиевна,— Вы что, забыли, что завтра у вас экзамен?
— Меня вызвали, я свидетель,— тряхнула головой Галина, рассыпав по плечам волну пышных волос.
— С тобой все ясно. А эти?..
«Эти», смешавшись, молчали. Впрочем, недолго.
— А вы сами, Людмила Георгиевна?..— спросил Дима Смышляев, высокий, спортивного сложения парень с простым, открытым лицом,— Как бы вы сами, на нашем месте?..— Он смотрел на нее пристально, даже сурово. И Людмила Георгиевна только махнула рукой, а потом вдруг быстрым движением выдернула из сумки платочек и отвернулась к окну.
И как не бывало — ни улыбок, ни галдежа, с которым они ворвались в автобус... Федоров знал не всех, но его и Татьяну все знали, и каждому что-то хотелось им сказать, но что-то мешало, как мешает всегда в подобных случаях. Федоров старался не смотреть на Татьяну, он и без того понимал, что после упоминания об экзаменах, которые мог бы сдавать их сын, все внутри у нее содрогается от боли, как живая рана, если к ней притронуться.
— Все будет хорошо, Татьяна Андреевна, вот увидите!
Это сказала Галина, и ее грудной, переливчатый голос прозвучал с таким напором, как если бы она в точности знала, что так и будет.
Читать дальше