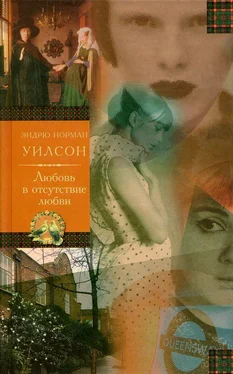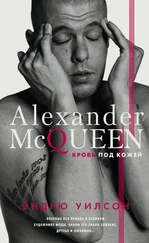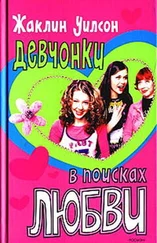— Пока нет.
— Ну а я решила быть с тобой абсолютно честной. Я даже написала Бартлу, что все тебе рассказала и что больше это никогда не повторится.
— Бартлу? Ты написала Бартлу?..
— Не волнуйся, дорогой… Я ничего не имела в виду. Хотя… Впрочем, это совсем не то, о чем ты подумал.
— О чем ты говоришь?
— Я не люблю Бартла, — сказала она с серьезным видом. Вздохнула, посмотрела мужу в лицо своими огромными, как блюдца, глазами. — Честное слово.
Еще десять минут назад сама мысль о том, что кто-то может любить Бартла, вызвала бы у его брата гомерический хохот. Но сейчас у Саймона в желудке вдруг образовалась пустота, словно он летел вниз с огромной высоты.
— Помнишь день, когда у мамы был приступ? Я думаю, с нами со всеми в тот день что-то случилось. И я поехала в Патни, а ты был очень занят, а потом вернулся.
— Да.
— А мы с Бартлом остались прибрать дом. А дальше можешь сам все себе представить.
— Не могу. Я могу представить себе все что угодно, кроме того, что Бартл… Ты это серьезно?
Она сжала его руку.
— Мне приятно, что ты ревнуешь.
— У меня в мыслях не было делать тебе приятное.
— Это было однажды вечером, когда мы навещали маму в больнице; в тот день, когда она была капитаном подводной лодки; нет, раньше, когда еще в батареях жили волшебные человечки…
— Неважно, какой это был день.
— Это важно, дорогой, потому что, знаешь, в те дни все было как-то нереально. Мама все время твердила, что может теперь находиться в нескольких местах одновременно и что мир скоро взорвется. Все было просто не-ре-аль-но.
— Не более нереально, чем то, что происходит сейчас.
— Мы пошли в эту маленькую итальянскую кафешку, которую мама так любит, вдвоем с Бартлом. Выпили бутылку белого сухого вина. Я заказала телятину по-милански, а он — цыпленка.
— Меня не интересует, что вы там заказывали.
— А потом мы пошли домой и пили кофе. О, я знаю, что это никакое не оправдание, но я так устала тогда и была немножко пьяная, и мне просто хотелось к кому-то прижаться.
— Ты мне сейчас говоришь, что ты и Бартл… это случилось… там, тогда?
— Но ты же знал… Ведь знал?
Наверное, легче было бы сказать, что он не знал, что это поистине самая сногсшибательная новость за всю его жизнь, но язык отказывался повиноваться. Сохранить лицо можно было, только сделав вид, что ему все известно, но, Господи, как это тяжело!
— И часто вы так? — спросил он, стараясь, чтобы голос не дрожал.
— Ну вот, это-то меня и беспокоило больше всего: я предполагала, что ты будешь так думать. Дорогой, тебе не следует думать, что у нас с Бартлом связь или что-нибудь вроде этого…
— Ноги его больше не будет в моем доме! — услышал Саймон свои слова. — Ты меня слышишь?
— Успокойся, милый, не стоит придавать такое значение пустякам! По правде говоря, Бартл это предсказывал…
— Мне плевать, что он предсказывал!
— Он сказал, что мне не следует тебе говорить, что это больно ранит тебя. Бедный. У него такой незавидный опыт семейной жизни, что он многого просто не понимает. Ему даже в голову не приходит, что ты способен это понять, Саймон. Я бы и не сказала, если бы не знала, что ты все поймешь. А ты вообразил себе невесть что, да?
— М-м-м…
— Ты простишь меня, милый мой Саймон?
— Боюсь, ты не понимаешь…
Она повернулась к нему. Ее поднятое вверх лицо было очаровательно и одновременно приводило его в ярость. Она так владела собой, просто с ума сойти. И теперь, если он скажет ей про Монику, все будет выглядеть так, словно он сбежал в Париж из-за этого случая с Бартлом. Но тут было еще и другое. Саймону невыносима была мысль о том, что этот слизняк был с ней. С его Ричелдис. Он грубо рванул ее к себе, так что ее лицо уткнулось ему в грудь. Ричелдис пошатнулась, и ему пришлось обнять ее. Саймона душил гнев — он понимал, что смешон, что цепляется за жену, словно обиженный ребенок — за мать.
Издалека их увидела госпожа Тербот, которая возвращалась к себе сделать мужу чай. «Счастливые! — подумала она. — Столько лет живут и все обнимаются!»
Здесь так холодно, что Сена почти замерзла. Везде очень красиво. Наверно, Париж задуман как ледяной город, ледяной, как парижане. Ни телефонных звонков, ни писем вот уже два дня. Ох уж это Рождество!..
Моника отложила ручку, солидный черный «Монблан». [67] Перьевые ручки «Монблан» — символ престижа и благополучия.
Она испытывала такую испепеляющую ревность к Ричелдис, что было трудно дышать. Да она двадцать два года держала его на привязи; и он никогда не любил ее по-настоящему! Нелегко было простить Ричелдис долгие пустые годы, лучшие годы жизни Саймона, а с тех пор как у них с Моникой все началось, каждая лишняя неделя, лишний день в разлуке были просто нестерпимы. Когда они были вместе в Лондоне и тогда, в мотеле, Монику даже растрогало бережное отношение Саймона к жене. Она стремилась получить то, чего желала так отчаянно, но не хотела, чтобы это причинило боль Ричелдис и детям. Уже давно было понятно, что Саймону нужно дождаться удобного момента, чтобы объявить им о своем решении. Но теперь, в Париже, в одиночестве, она чувствовала себя совершенно подавленной несправедливостью всего происходящего. Она тосковала по нему, плакала о нем, нуждалась в нем. И почему же, черт возьми, эти скучные, ограниченные люди требовали его присутствия еще десять дней?! Когда чувствуешь такое, тяжело оставаться хрупкой, сдержанной Моникой. Более того, после почти двухнедельной разлуки она уже почти стеснялась писать Саймону, не осмеливаясь сказать просто и прямо, что ощущает.
Читать дальше