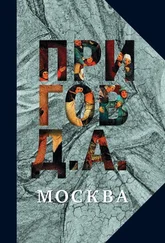Подобное же терпеливое отношение здесь, извините, и к воронам. В Японии водятся именно в о роны (ударение на первом о), а не как у нас вор о ны (ударение на втором о). К сожалению, у меня на клавиатуре почему-то нет знака ударения, и приходится изъясняться таким неадекватным способом. Но, думаю, понятно. Вороны, надо сказать, противные, наглые, кричат удивительно громкими, базарными, отвратительными истерическими голосами. В своей наглости они пикируют прямо на головы людей. Случая заклевывания человеческих особей, типа хичкоковского, по-моему, не наблюдалось. Во всяком случае, во время моего пребывания. Но одну впечатлительную нервную московскую профессоршу, обменивавшуюся здесь с японцами своим лингвистическим опытом, они прямо-таки затерроризировали массовыми пикированиями с тыльной стороны ей на затылок. Она утверждала, что были прямые и недвусмысленные попытки даже расклевать ей темечко. По счастью, подобного не случилось. Сотрясаемая нервным припадком, она утверждала также, что у них там какой-то специальный, коварно просчитанный и кем-то сверху санкционированный и иезуитски направляемый заговор против нее. Она не могла даже и помыслить, с какого неисповедимого верха исходила санкция. Она впала в истерическое состояние, сидела дома, забившись в угол с ногами на диване. Ей все время казалось, что вороны подглядывают в окна, собираясь большими стаями, ожидая ее появления на улице. Обеспокоившиеся ее долгим отсутствием, японские коллеги, пришедшие навестить, нашли ее совсем уж в невменяемом состоянии, непричесанную, с огромными кругами под глазами, беспрерывно повторявшую:
Они меня ожидают! —
Кто? — Они! —
Кто они? —
Птицы! Птицы! Ваши птицы!
Они хотят меня погубить! —
Почему? —
Не знаю! Не знаю! —
Но все это, скорее всего, были ее панические иррациональные фантазмы. Кто ее хотел убить? Птицы? Это же смешно! Хотя отчего же? Такие случаи известны. Они зафиксированы и в исторических документах, и в художественных произведениях. Но даже если в данном случае и не было таинственного преднамеренного заговора, то все равно неприятно. Сочувствующие коллеги обращались в какие-то человекозащитнические от зверей организации. Те приезжали, качали головой, сочувствовали и сокрушались. Затем уезжали. Не знаю, попытались ли они что-либо предпринять. В общем, это вам не наши, знающие приличие и свое место птички. Нет, это те, о которых неприязненно-уважительно поется:
Черный ворон, что ж ты въешься
Над моею головой.
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой.
Да, да, именно яростно распевая эти строки, я бросился на одного из таких, возымевших наглость спикировать сзади на меня, пока я мирно брел по парку в трансе сочинения очередного стихотворного опуса. Я был возвращен к реальности страшным шуршанием перьев над моей наголо побритой головой и запредельного ощущения касания прямо-таки Крылов смерти. Я отпрянул от неожиданности, и черное чудовище взмыло вверх. Местные специалисты, спрошенные по подобному поводу, отвечали по телевизору, что просто не надо обращать внимания на эти акты агрессии. Если уж очень тревожно — можно носить широкополую шляпу. В крайнем уж случае можно использовать и зонтик. Таков был ответ. Но не таков я, как и многочисленные мои пламенные соплеменники из России. Я преследовал наглеца по территории всего парка с дерева на дерево. Злодей выбирал наиболее высокие и укрытые ветви, но не укрытые от меня. Я был неудержим и неумолим в своей ярости пандавов, настигших кауравов. Или как их там звали. Или наоборот. Ярость моя была неизбывна и всесокрушающа. Я выбирал каменья покруглее, так как плоские во время полета заворачивались вокруг продольной оси и уходили вбок. Я как Давид точно отбирал снаряды для своего смертоносного метания. Супостат уже был не на шутку встревожен, даже в легкой истерике. Его сотоварищи, видимо чуя мою правоту, силу и несокрушимость, немного даже опасаясь за себя и за свое встревоженное укрытое потомство, держали откровенный нейтралитет. Я же мстил не только за себя, но и за ту невинную, доведенную почти до состояния каталепсии и безжизненности, безвинно сгубленную распущенными японскими птицами, мою милую соотечественницу-профессоршу. Я мстил за всех своих. И за Санька, в десятом классе бросившегося под колеса набежавшего поезда из-за первой в своей школьной жизни двойки, поставленной злобным и мстительным, одноглазым, похожим на свирепого убийцу, учителем математики по прозвищу Штифт. И за Толика, задохнувшегося в трубе в возрасте десяти — двенадцати лет. Мы все полезли исследовать только что привезенную на нашу законную территорию огромную канализационную трубу для предполагавшейся, но надолго затянувшейся и в результате так и не состоявшейся починки прорванной канализации. Толик полез первым. Мы за ним. Мы как-то выбрались, а он застрял. Когда прибежали вызванные нами взрослые и слесаря, его вынули уже синим и бездыханным. Это очень неприятно поразило все наше дворовое сообщество. Мстил я и за того Рыжего, хоть и чужого, из чужого, в смысле, двора, паренька, зарезанного нашим Жабой. А также за всю нашу поруганную и ввергнутую в разруху и передряги великую и многострадальную, чаему к возрождению, но и столь ныне далекую от него, страну.
Читать дальше