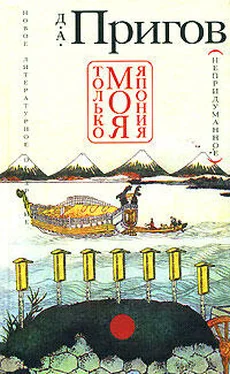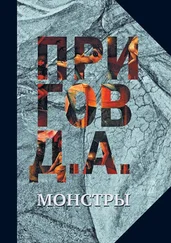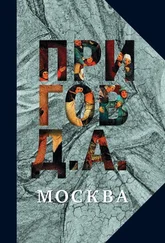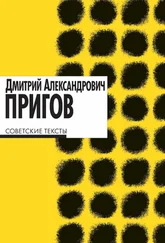Хозяин вполне изъяснялся по-русски, так как родился в России от интернированного бойца побежденной и плененной Квантунской армии. Мать его, так уж удачно сложилось, тоже была японка, хоть и русского производства. В отечество он вернулся совсем недавно, после перестройки, лет семь назад. Русские, очевидно, были нечастыми гостями его заведения по причине чрезвычайной редкости в этих местах. Хозяин с удовольствием вспоминал разговорный русский, не спеша уходить на кухню. На мой вопрос, как его отец перенес ужасы сибирских холодов и лагерей, он, неожиданно расплывшись в улыбке, сказал:
О, очень хорошо! —
Как так? —
Очень просто. —
И он вполне доходчиво и толково объяснил. Дело в том, что после пленения правильным и добропорядочным японским солдатам следовало бы сделать себе харакири. В особенности же подобное должно было бы произвести над собой офицерскому составу, к которому и принадлежал отец рассказчика. Это и понятно — ведь они не смогли уберечь любимого императора от позора и поражения. Даже если бы соотечественники под влиянием новой жизни и новых норм общежития, внедряемых американскими победителями, и не стали бы откровенно высказывать претензии типа: «Что же ты, подлюга, вместе с танком не сгорел!» — все равно побежденные, выживши, всю оставшуюся жизнь влачили бы в социально-психологическом статусе изменников и трусов. Атак советский плен как бы снял проблему. И это все — не мои измышления, а по рассказам самого японца, сына японца, проигравшего вместе со всеми остальными японцами Вторую мировую войну. Возможно, я не все правильно или все неправильно понял. Но очевидно, что-то подобное в социуме и психике японцев того времени существовало. Во всяком случае, было актуальным для нашего японца, отца хозяина хоккайдского ресторана «Кошки», без всякого отвращения или негодования проведшего десятки лет в советских лагерях и ссылке.
Пища в ресторане была вполне русскоподобной, насколько она могла быть воспроизведена в пределах чуждого этноса и чужих бытовых привычек. Например, блюда не подавались привычными огромными порциями в самоотдельной чистоте — огромная тарелка дымящегося, например, борща или огромная же тарелка с сотней или двумя трогательных, как детские безвольные тельца, скользковатых пельменей. Нет. Все было подано аккуратно и изящно по-японски на лакированном подносике сразу же в большом разнообразии и понемногу: немного пельмешек, немного соленых огурцов с помидорчиками, два-три крохотных пирожочка, немного вареной картошечки с укропчиком, чашечка щей. Щи пахли и дымились хорошо. Я пытался обучить своих сотрапезников произнесению слова «щи». Все время получалось что-то вроде: си-чи-ши. Но пища всем нравилась и, подтвержденная мной в своей идентичности, поглощалась с тем большим удовольствием, что несла на себе еще и отпечаток страноведения. Вдоль большей части стен красовались расставленные бесчисленные варианты российской водки. Я же угощался имевшейся здесь «Балтикой-3».
В удаленном уголке среди странного набора русско-английско-японских потрепанных и пожелтевших книжонок я отыскал номер журнала «Коммунист» за 1989 год. Видимо, я был единственным не только в пределах далекой Японии, но и во всем свете, кто одиннадцать лет спустя после года издания взял его в руки, раскрыл и даже внимательно пролистал. Приятно было ощущать себя некой особенной, эксклюзивной личностью, достойной книги Гиннеса. Особое мое внимание в журнале привлек спор многочисленных авторов по поводу возможности Коммунистической партии быть партией не только рабочего класса, но и всего советского народа, как о том торжественно и лукаво было объявлено в хрущевские времена. Мне это памятно. Я как раз все это изучал в своих институтских аудиториях на занятиях по истории партии, научному коммунизму и политэкономии, впрочем немногим друг от друга разнившихся. Мне все это так живо припомнилось посреди неведающей и неиспытующей от этого неведения никакого стыда Японии. Впрочем, стыда от незнания всего этого, изощренно-умозрительного и тем самым покоряющего понимающих и страждущих подобного, не испытывают нынешние бесцельно наросшие поколения. На некоторое время я застыл, улыбаясь и тихо незлобиво припоминая.
Потом пришел в себя и снова обратился к журналу. Один справедливый автор возмущался непотребством подобного рода попыток и даже самого определения. По его правильному представлению, народ состоит из стольких разнообразных социальных и классовых слоев и прослоек, что их интересы не могут быть совмещены в пределах одной партийной программы и деятельности. Он был за Коммунистическую партию как кристально чистую партию рабочего класса. Наличие же такой странной новой социальной общности, как советский народ, что тоже было объявлено и заявлено идеологами хрущевских времен, он подвергал недвусмысленному сомнению и даже открытому язвительному осмеянию, несмотря на искреннюю партийность и, следовательно, приятию принципа партийной дисциплины и демократического централизма. Он был исполнен праведного сомнения и последующего неприятия. И я с ним согласен. В одном только был не согласен, когда он с такой же легкостью из очевидности своей идеологической и классовой правоты выводил и простоту разрешения всех остальных проблем. Например, тех же экономических и социальных. Автор и, очевидно, съестные запахи, окружавшие меня в сей ресторанный момент за еще не накрытым столом, напомнили мне живо одну историю из времен моей скульптурной, не скажу молодости, а скажу уверенно — зрелости.
Читать дальше