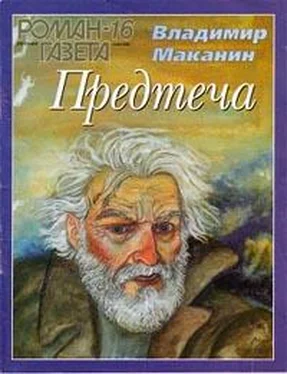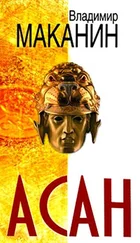Жена, с заплаканными глазами, рвалась в вагон, в свое купе, внушая что-то детям и подпихивая в углы вещи. И почти тут же из вагона, протискиваясь через встречный поток, она выскакивала вновь на перрон и, помятая, жалась рядышком к мужу — они уезжали все вместе. Лишь старуха мать, поодаль стоя, мрачно смотрела на происходящее: она оставалась в Москве одна — ждать смерти и на всякий непредвиденный случай хранить их квартиру.
— Как поняли жизнь, так и живите… — все бубнил спаситель, старуха же с суровостью и с солдатской прямотой смотрела на его выношенное пальтецо и кепку.
Потрясенная еще раньше названием болезни и неизбежной сыновьей смертью, затем мгновенным или почти мгновенным его исцелением, а теперь вот скорым паническим отъездом, старуха лишилась на этих качелях, падая и взлетая, нормального хода чувств. Не нашлось в ее душе ни простенькой даже благодарности Якушкину, ни вокзального чувства расставания с сыном. Выпрямленная неожиданной суровостью и вся пустая, полая, она только передвигала в себе вверх-вниз вчерашнюю мыслишку: пусть уедет. Пусть уедет и пусть живет, исцеленный, где-то совсем вдалеке, за тысячу километровых столбов от этого диавола, который так нехорошо бормотал за запертой дверью сына в те долгие ночи. Старуха мать была тоже из тех, кто тяги не испытывал. Ей было на Якушкина наплевать, особенно же сейчас — после исцеления. Ей было разве что душно, и старуха все отирала рот безразмерным белым платком, запамятовав, что взяла платок, чтобы помахать, по давнему обычаю, отъезжающим, когда вагон дернется и поползет.
Одновременно же (как пример скрытого воздействия) молва прямо указывала на некоего слесаря, проживавшего с больным К. (правильнее: с обреченным К.) в одном доме. Этаж назывался точно — пятый. О том, что кого-то врачуют в соседнем подъезде, за капитальной стеной, слесарь не знал, однако вдруг он стал испытывать беспокойство, что и было замечено. Возможно, что, врачуя К. и час от часу все более впадая в знахарскую ярость, особенно же накаляясь к ночи, Якушкин располагался у капитальной стены слишком близко. В сущности, если забыть о стене, их разделял один шаг.
Поужинав, слесарь не желал смотреть телевизор, а только смотрел или вдруг косился туда. Спал он плохо и особенно к ночи все чаще и чаще поглядывал на квадратики и ромбики обоев, что на той стене. На третью, кажется, ночь слесарь тяги не вынес. Разбив висевший на стене групповой семейный портрет, он обломал кулаки и порезал руки, так как портрет был окантован и остеклен. Вызвали врача. Следом — вызвали другого, с иным профилем.
В белых халатах, входя, а иногда вбегая в соседний с К. подъезд, врачи поднимались на лифте и лечили чувствительного слесаря пока еще обычными средствами: валерьянкой и бромидами. Возникла своеобразная параллельность. К тому дню, когда Якушкин стал поднимать своего обреченного на ноги и обреченный К. почти поверил, что будет жить, — слесарь, что за стеной, уже откровенно тяги не выдерживая, раз за разом бросался с забинтованными кулаками на эти самые ромбики обоев, за которыми творил чудо и бормотал день и ночь напролет знахарь. Слесаря связали, возле него дежурил крепкий медбрат. Было уже почти решено, что беднягу отволокут со дня на день в психушку, но, к счастью, Якушкин за стеной свое знахарское дело как раз завершил. Больной К. ожил, и Якушкин лишь навещал: приходил теперь к К. все реже. Психологическое поле, которое создавал знахарь своим застойным присутствием, распалось, после чего и слесарь пришел в себя сам собой. Слесаря уже не надо было поить валерьянкой, хотя его все еще поили. За ненадобностью уехал карауливший медбрат, ночами слесарь спал спокойно. А в понедельник он уже вышел на работу, а еще через два дня повесил на стенку групповой семейный портрет, сам же и заново портрет остеклив.
Так говорили; легенд было немало, и в легендах, конечно же, были свои пережимы.
Собственный же рассказ Якушкина всегда начинался с того времени, когда он, проворовавшийся, отбывал наказание в Сибири, — стояла таежная зима, велись там долгие и изнурительные земляные работы; там-то он вдруг понял истину. И именно в эту самую минуту (или в минуту очень-очень близкую) напарник, уже вполне исправляющийся и по-своему милый бандит Зотов, сказал: перекурю, мол, придержи, — Якушкин же, ослепленный красотой открывшейся истины, замешкался и не расслышал. Бревно упало ему на голову. Он потерял сознание, после чего в больнице ИТК, неплохой, его долго откачивали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу