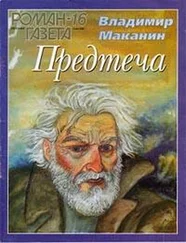А те, кто за дверьми, сидят за длинным столом. Дело как дело. (Изнанка человеческого унижения.) Но если почему-либо им не удается покопаться в твоей жизни, запустив туда руки по локоть, они сворачивают свой спрос. Это удивительно! Они вдруг отпускают тебя с миром. Мол, да. Мол, такое бывает. (Живи.)
Одного старикана уже было довели до истерики, но тут он полез в нос и вытянул длинную зеленую соплю. И был отпущен. (Он невыносимо долго выбирал ее из носа, чуть ли не наматывая на руку.) Другой инвалид, когда команда, сидящая за столом, взялась за него слишком ретиво, стал от волнения издавать неприличные звуки. Звуки не были громки, но все же неприличны, сомнения тут быть не могло. И вновь сидящие за столом очень быстро старика отпустили. Это называлось: обсуждение пошло по неправильному пути . А для обоих стариков краткость спроса стала спасением. (Бог, это известно, хранит простые души.) Стариков как раз изгоняли с насиженного места — их выселяли куда-то за город, «поближе к природе». Их было пятеро. Глубокие старики, они оказались из числа тех, у кого на старости лет документы все еще были не совсем в порядке (прописка, право на жилплощадь). Их, разумеется, выселили. Но прежде, чем выселить, их должны были, конечно, расспросить по всей жизни — не были ли в плену? почему в таком-то году ушли с работы? почему так неуживчивы с соседями?.. И так далее и так далее, что сводилось к простому и известному: виноваты .
Как сообщалось, из пяти стариков Октябрьского района двое после расспросов так поднапугались, что умерли, не прожив и недели. Третий умер накануне спроса, переволновавшись. Но двое остались живы — те самые, разумеется, кого не слишком долго расспрашивали: тот, кто издавал звуки, и тот, кто наматывал на кулак никак не прерывающуюся соплю.
Не в антиэстетике суть. А в том, что, если человек не подключал свою душу к спросу, спрашивать его не хотелось. Столь умелые и настырные, они вдруг словно бы теряли свое умение.
Помню пьяноватого человека (нет-нет, да икая, он сидел на стуле и смотрел в какую-то точку на противоположной стене). Его уже дважды выкликнули: «Запеканов?.. Кто здесь Запеканов?» — а он все сидел, смотрел в точку. Только при третьем вызове он от нее отвлекся и прошел в кабинет, где заседали и спрашивали. (И ведь как сошло хорошо! Пьяница вел себя бесстрашно.) Он знал, что ни унюхать запах водки, ни попрекнуть красными глазами его сегодня не могли: водки он не пил. Он просто съел два тюбика мази от чесотки.
Спрашивающие из огромного своего опыта знали и уже привыкли, что пьяница (по какому бы поводу он ни был зван) приходит на обсуждение трезвым (впервые за долгое время). И потому он особенно придавлен, несчастен, соглашается со всем на свете, даже плачет. А Запеканов в тот день был скорее отважен и уж никак не робок. (Он несколько странно острил после двух своих тюбиков. Но ведь никто и не ждал от него большого интеллекта.)
— Я половину из вас видел в гробу, — так он острил в ответ через каждые два вопроса на третий. Бессмысленность обсуждения была очевидна. И когда кто-то из сидящих за столом, преисполненный иронии, спросил: «Не в белых ли тапочках?» — Запеканов отвечал, продолжая:
— Нет. На босу ногу.
Они не копаются в душе, если человек явно от них отличается. Если он лилипут, или поражающий видом альбинос, или отмечен очевидным калечеством, тут они иссякают сразу: спрос вдруг кончается, и лилипуты, альбиносы и калеки уходят, по сути, нерасспрошенными.
Заики. Немножко дебилы. Чтобы ускользнуть от спроса, неплохо перед каждой своей ответной репликой немного помычать. (Но раздумчивое «м-да» не спасет, потому что слишком обыкновенно.) Хорошо получается, если тянуть и гласные, и согласные как можно дольше, с растяжкой: «Ммм-мыыы. Я вот м-ммммы думаю...» — но и тут все еще не отвечать на их вопрос, а начать разок-другой снова: «Ммм-мыыы. Я думаю, ммм-мыыы. Я думаю, мммы-ыы...» — с растяжкой и со вкусом ко всякому звуку. (И не скромничать. Мыкать. Тут ведь срабатывает не гуманность сидящих за столом судей, а их недостаточные (все-таки!) претензии на роль, все-спрашивающего Бога — претензии претензиями, а все же они трусоваты. Знают, что до Бога им далеко. И потому, суеверно боясь накликать беду на свои головы, они отпускают несчастных с миром, оставляют убогих — у Бога : ему их и оставляют, мол, это не наши.)
Всех остальных они считают своими. Зато уж все остальные в их руках.
Ночь.
Когда-нибудь, совсем старый, я приду на последнее в своей жизни судилище: сяду перед последним своим столом. (Где, может быть, как раз и будет обсуждаться мое право заказать гроб: возможно, с гробами будут большие сложности, нет досок, нет гвоздей; недавно по радио, по программе «Маяк», передали, что какого-то мужика хоронили в детском гробу — бывает!) И пойдет своим ходом последнее со мной разбирательство. Я пришел. Они сидят. (Дать ли мне гроб и как скоро. Заранее дать или пусть жена колотится в очередях. Жена ведь в очереди постоять сможет, и дети смогут — у него дети взрослые! — обязательно скажет кто-нибудь за столом.) И поскольку не альбинос, разбирательство будет разбирательством долгим и серьезным. Так что я еще с вечера буду волноваться. И спать буду плохо. И сбивать давление, и пить валерьянку. А утром приду.
Читать дальше