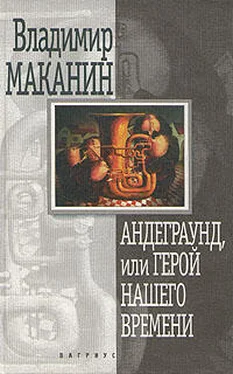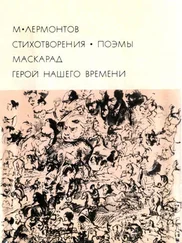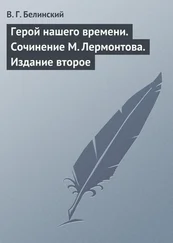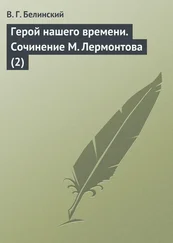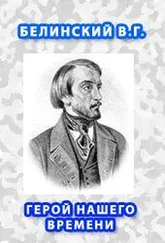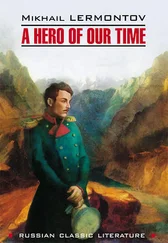Мой голод ожил возле наших палаток. В булочной хлеб дешевле, но туда надо сделать стометровый крюк, а я устал, день на ногах.
— Эй, покупай!.. Почему не покупаешь?
Это не мне — голоса возле соседней палатки, где фрукты и овощи: бойко торгуют, весело! Когда товар хорош, продавцы возбуждены, радостны — истинные восточники, они и сами стараются быть в тон и в цвет с красивым прилавком. Молодцы!.. Но словно бы напряженность (я вдруг чувствую) висит в воздухе.
— Почему не покупаешь?..
Возле лотка с овощами замер нерешительный общажник, это Гурьев. ( Инженер . В прямом, а также в переносном смысле.) Стоит, хлопает глазами.
Кавказец-продавец с размаху воткнул перед ним нож в деревянный стол. Звук резкий. (Может, кого из кавказцев все-таки побили?) Напряженность материализовалась: вбитый с маху нож засел в дереве стола — подрагивает и бьется. Дребезжит.
Продавец (его голос) заметно агрессивен:
—...Ты правда инженер? А что ж так испугался? Ножа испугался?.. Да я его просто воткнул, чтоб посмотреть.
Подмигивает своим, кавказцам:
— Я подумал, не забыл ли я его дома.
Смех.
— Я не испугался, — неловко (и отчасти растерянно) объясняется Гурьев, на людях безлик и сер. Из 473-й. С вынутой из кармана авоськой (по пути с работы, жена велела!).
Воткнутый нож дребезжит. Наш инженеришка хочет показать, что он в порядке, но тем зримей, тем заметней его растерянность.
— Испугался, испугался, дорогой!.. Бледный, смотри какой. Лоб совсем бледный стал — белый!
Трое кавказцев (стоят у лотка) забавляются его испугом. Но смеются они тоже с некоторой напряженностью. На них словно давит некий известный им факт. (Кого-то побили?..)
— Да погоди, не спеши! посмотри, дорогой, какие баклажаны! Ты никогда в жизни таких не видел!
— Цена... Цена не подходит, — мнется, хочет уйти. И в то же время Гурьев уйти не в силах. (Я почувствовал себя на его месте.)
— А я сбавлю цену. Сбавлю. Не торопись!.. Нельзя так пугаться ножа, я его просто вынул, хотел посмотреть.
Все трое опять засмеялись. И (типично!) стоявшие там и тут покупатели, в основном наши общажники, тоже в подхват развеселились. Женщины и мужчины, пестрый люд, смеются — забавно, забавная шутка! Разве, мол, мы не знаем, что шутка!.. А он стоял, улыбался. Да, да, этот клятый инженеришка, мое прошлое, моя боль, полупридуманный страдальческий тип, который во мне столько лет молча отыгрывался, — теперь он им всем улыбался. Ему нет перемен. Вечный. С длящейся мукой на лице. Не столько, отметим, мукой страха, сколько мукой неожиданности с ним (и с нами всеми) происходящего. С мукой неготовности (мукой неспособности себя ни скрыть, ни открыть), он — улыбался. То есть хотел и старался улыбаться. Уж это его старание! Эта улыбка... (Я — лет тридцать назад.) Сколько ж тебе лет, Апулей , ау, Вероника, сколько же прошел твой осел ! Кто знает, может, ради той давней боли человек и начинает сочинять повести. Из той боли. Что в свою очередь, оттеснив и переоформив, но так и не сняв боль, приводит к тому, чем и кем человек стал. Переменчивые в житейских кармах, мы еще переменчивее в наших перевоплощениях... Кавказцы смеялись, нож все еще дребезжал, уже тише, мельче.
И Гурьев, под звук, под мелкое дребезжание, все мялся на ватных, на застоявшихся ногах. Хотя бы без этой жалковатой, не дающейся ему улыбки — не мог я ее видеть, а ведь видел, смотрел. И (тонкость!) я не уверен, что на моих губах в ту минуту не плавало точное подобие его улыбки, остаточная интеллигентская мимикрия под всех . Сколок улыбки той давней поры.
— Я пойду. Не... не подходит цена, — говорит наконец инженер Гурьев и уходит.
И еще машет зачем-то всем нам, смеющимся зевакам (всему человечеству), машет рукой — мол, так надо. Мол, он что-то вспомнил. Улыбка, и этот как бы с оправданием (и, конечно, тем меньше оправдывающий) невнятный взмах рукой российского интеллигента, кто его не знает. Уходит. Ушел.
Вернувшись в общагу, сую в карман нож. Почти машинально, то есть не обдумывая и даже не пытаясь соразмерить степень набежавшей тревоги. (Тот, воткнутый в стол нож, дребезжащий, еще дергался в моих глазах.)
У Конобеевых на кухне замечательный набор ножей — покрутив в руках тот и этот (машинально перебирал их), выбрал все-таки свой. Тот, которым чистил картошку и к которому привычна рука. На всякий случай. (Агэшник достаточно автономен, чтобы не уповать на милицию.) Конечно, нож ни к чему. Но если меня станут стращать, я тоже постращаю. Он вынет — я выну; и тихо разойдемся с миром (и еще, пожалуй, с уважением друг к другу).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу