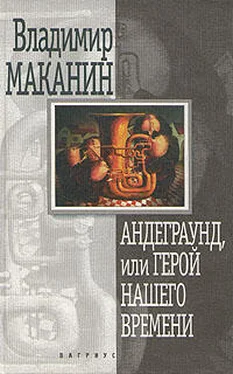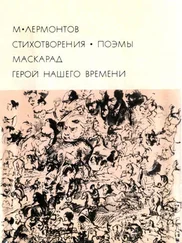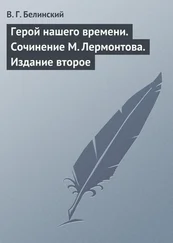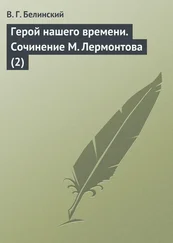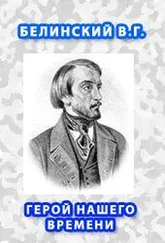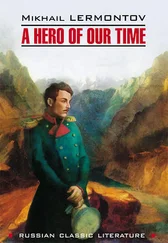Но санитары же и успокоили: чего не наговоришь после того, как весь вечер разбрасывал по углам десяток вьетнамцев, — не я кричал и выл: кричал ничем не защищенный, нагой край моего «я». У каждого есть.
А ведь мог бы и не попасть в больничные стены, расскажи я хоть вполслова в тот вечер полусонной Нате. (Для чего-то же я выставил рыхлого Валентина.) Рассказать за чаем — это как выпустить через потайной клапан пары. Ната бы дула в свою флейту, и моя бы душа потихоньку дула в свою. Не успел. Ждал чего-то. Ее пожалел.
Так я корил себя (уже несколько прагматически), а уж если корил, значит, ожил.
Еще через день я уже как свой расхаживал по больнице. Шел к столам, где ужин — сглатывал на запахи слюнку. Безумцы мне не мешали.
Уже Иван в свое время мне объяснил, что это раньше (пока не появились нейролептики) психушка буйных выглядела (да и была) сущим зверинцем. Теперь иначе: в ХХ веке любое буйство лишь «для дома, для семьи» — и то на короткий период, до прихода санитаров.
Так что рядом со мной больные были как больные. Люди. Разумеется, я был гуманен и все про них и про их странноватую задумчивость понимал — я их жалел, помогал застелить постель, звал на укол и прикуривал сигарету (если у кого тряслась рука).
И, конечно, этот старик был на своем месте — лежащий на кровати (в коридоре) старик-алкаш, без которого я не представляю себе полноценной психушки. Как герб на вратах. Старый алконавт был «зафиксирован», то бишь привязан к кровати. И плакал. Стонал. В его глазах вековое гнилье. Болотная жижа застаивалась под бровями, час за часом, он расплескивал ее, только когда мотал головой. Бродячие дебилы в халатах и выставленная на виду кровать со стариком, под которой лужица слез — вот что такое больничный коридор (плюс отсутствие окон). Я расспросил: у старика не было родных — жил один, спивался и в белой горячке выбрасывал из дома все предметы, какие только мог поднять. Упекли, разумеется. Соседи, разумеется. (Теперь старик не был опасен для проходящих под окнами.) Время от времени он метался; кровать скрипела на весь коридор. Буйство сошло, уже на третий день его развязали, но теперь он принципиально не вставал и ходил под себя. Запахи? Воняет? — это ваши проблемы! А он хотел жить. Он жадно ел. Одна его рука все время была с решимостью выброшена из-под одеяла вверх и в сторону: к людям, мол, если с едой, не проходите мимо! Великий старик. Сам в говне, а рука — к небу.
Ему не нашлось места, а меж тем я видел в палатах свободные кровати. Одна-две. (Возможно, старик в коридоре просто обязателен, чтобы больница была настоящей .) Впрочем, свободные кровати могли быть кроватями отпущенных домой. Некоторых выпускают на субботу-воскресенье. Стариков выпускают. Молодых дебилов — нет. Вдруг вспоминаю: я-то старик (мысль моя все еще как бы спохватывается и входит в реальность рывками: включается «я»). Меня тоже будут выпускать. Опять жизнь! А коридоры — моя слабость. Нет лучше места для дум. Руки в карманы (халата), я шел завтракать кашей.
Жизнь в больнице, особенно поначалу, очаровательна своей медлительностью. Я легонько насвистывал. Я вполне ожил. (Быстро пускаю корни.) На душе широко, легко, как после одержанной победы. Я тоже великий старик. Мучившее отступило. В результате ли инъекций, нещадно кололи двое суток, либо же как результат собственного срыва (когда я изошел в вое и в крике), мне полегчало. Я верю в крик. Вой не бывает неискренним. Тот ночной крик в бомжатнике был расслышан. Они (там, высоко наверху) приняли мой вой и мою боль как покаяние; приняли и зачли. Мысль мне нравится. Тем провалом в кратковременный ужас и сумасшествие я оплатил первую (скажем, так) из присланных мне квитанций. Могу жить. Совесть, похоже, умолкла. (Бедный наш рудимент. Пришлось-таки с ней считаться!) Возможно, я оплатил уже и весь счет, знать я не мог. Сумму никто не знает. Людям не дано, — философствовал я, выгуливая себя по коридору. Прогулки полезны. Маячат пять или шесть психов, тоже туда-сюда, отдых.
Нас подкалывают, послеживают (боясь рецидива), и ведь какая-никакая еда, кормежка! Кормежка и, плюс, уже чуть-чуть манящая медсестра Маруся... вот приоритеты. Гребу двумя веслами.
В первый день я очнулся «зафиксированный», руки-ноги привязаны к кровати, в голове тупая боль, а над головой — белый-белый потолок. Я нет-нет и проваливался в белое, плыл, но уже тогда как бы инстинктом держался за глаза улыбчивой Маруси, а потом и за рысьи глаза Калерии, второй наклонявшейся ко мне, стареющей медсестры. Руки со шприцем. Окрики. Лечащий врач Зюзин. Меня развязали. Оглядевшись, я вдруг легко осознал себя среди десяти больничных коек. А улыбающаяся Маруся подала пить... Мой лечащий Зюзин звезд не хватал ни с неба, ни у начальства: из недалеких и слишком честных. Славный тугодумный мужичок. При обходе молча стоял возле моей кровати. С лекарствами не усердствовал. Когда я бурно и сбивчиво исходил в крике, Зюзин (принимал меня из рук «скорой») все повторял: мы вас понимаем! прекрасно вас понимаем!.. Зато теперь, в палате, я уже свысока рассуждал, мол, надо же, этот мышонок, этот жеваный белый халат, он может меня понимать да еще прекрасно . (Он может понимать Калерию, которая клянчит увеличить ей зарплату на мизер.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу