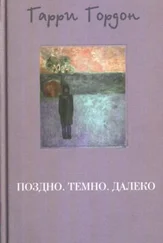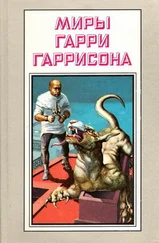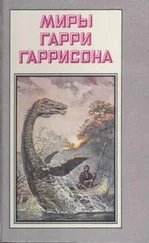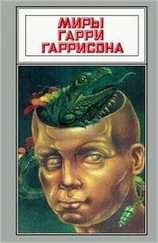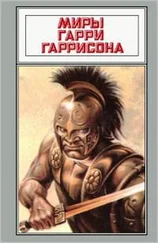— Дай глотнуть, — сказал Савка. — А тебе — нельзя.
Васька охотно протянул кружку. Савка шагнул и провалился по пояс — дна не было, и опорой была только болотная гниль.
— Васька, — закричал он, но Васька исчез.
Теплая вода сжала грудь, подступала к горлу. Савка вдохнул последний воздух и с шумом вынырнул из кошмара.
За окном было темно. Сердце колотилось, Савка вытер горячий пот и сел на кровати. «Кто же это спит на закате? Зачем!» Он зажег свет, выпил сыворотки. Пойти, отнести палку…
— Так вот, эта тетрадка…
Вошел Савка.
— Херсимыч, возьми палку. Удобная.
— Савва, — сказал Петр Борисович, — ничего, если я сейчас читать буду, а ты помолчишь?
— Да хоть читай, хоть пой, только не мычи. Я посижу, ничего. И вот — выпью.
— Минутку! — Серафим Серафимович перегнулся с кровати, порылся в рюкзаке и вытащил бутылку коньяку. — Раз уж мы «у камина»…
— Правильно, — одобрил Савка, — а я водку допью.
— Хорошо бы собаку купить, — засмеялся Петр Борисович.
— Зачем?
— Да это я так, Савва, к слову.
— Была у меня собака. Дружок. Ты, Борисыч, помнишь. Вот намучился. Сядешь поесть, а он в глаза смотрит. И еще лапу на колено кладет.
— Вы бы его, Савва, кормили.
— Случалось, и кормил. А еще — он все время брехал. Днем и ночью. Сорока по руберолю проскачет — брешет. Дачник на улице пернет — опять брешет. Убил я его.
— Как?
— Как. Жерздиной.
— Хватит, — сказал Петр Борисович и вздохнул. — Поехали.
Комментарии к безвозвратному глаголу
Как вам известно, стихи в ранней молодости пишут чуть ли не все. Отчего — не знаю. Может быть, не достаточно обыкновенного порядка слов, чтобы удержаться в потоке все новых и новых впечатлений, может быть, это защитная реакция на атаки мировой гармонии, а может — просто игра для самоутверждения, — нормальный человек не говорит рифмой, а я — могу, потому что исключительный.
Ваш покорный слуга заболел этим чуть попозже, в двадцать с лишним лет, потому как с детства занимался живописью, что, впрочем, то же самое.
Так вот, эта тетрадка — избранное собрание моих поэтических произведений, созданных на первом и втором курсе. А учился я в Ленинграде.
Очень многое меня не устраивает в этих стихах, кое-что кажется наивным, кое-что — просто смешным, и все вместе — непрофессиональным. Правда, будучи зрелым художником, я понимаю, что профессионализм — понятие широкое и неясное, что если дело в технологии, то он необходим, прежде всего, в делании табуреток и постройке домов, то есть в культуре материальной, а в сфере, так сказать, духа, важнее другое… Но об этом не будем, вы знаете это не хуже меня.
Так вот, по прочтении этих стихотворений через тридцать с лишним лет, первым моим побуждением было — исправить, вычеркнуть, продолжить. Но померещился мне через бумагу облик моей былой музы, покинувшей меня так внезапно. Не знаю, куда они деваются, когда покидают нас, — может быть, она испарилась и стоит теперь облачком над мировым океаном, может, морочит сейчас голову молодому человеку.
Так или иначе, править старые стихи — все равно, что ретушировать старые фотографии. Вот муза — девочка с бантиком. Вот она в младенчестве — голенькая. А может, и не муза даже, а ее мама или бабушка. А я по ней — свежей ретушью, так, что ли…
— У меня дома прабабка голая. На шифоньере, — сказал Савка.
— Сомневаюсь, — откликнулся Серафим Серафимович. — Вам ведь за шестьдесят? Тогда эта фотография должна принадлежать восьмидесятым, а то и семидесятым годам девятнадцатого века. А такие, постановочные фото, могли позволить себе только состоятельные люди. Может быть, бабушка, или даже мама?
— Что я, родную мать от прабабки не отличу? — исподлобья ответил Савка.
— Ну, не знаю. Простите меня.
— Савка, выведу, — сказал Петр Борисович и посмотрел на Серафима Серафимовича.
— Все, все, не буду.
В углу что-то защелкало, забилось, зажужжало.
— Это муха, — сказал Савка, — оттаяла за обоями.
— Бог с ней, — Петр Борисович подбросил в печку полено. — Так вот, юная моя муха… Тьфу, муза. Ладно, я все уже сказал. Можно читать.
Прости меня
За снега недостаточную свежесть,
За хрупкость света, и неверность льда Фонтанки.
Там живут простуженные рыбы
И слепнет подо льдом опухшая вода.
Я виноват, что слишком много прозы
В весенней слякоти и зимних холодах,
Что нет весны, когда крепки морозы,
И нет поэзии в промокших башмаках.
Что заспиртован день на дне стеклянной банки
И что сверлят асфальт ручьи, как дрели,
И тучи тычутся, как рыбы на Фонтанке
О ржавые крючки бестрепетных деревьев.
Читать дальше