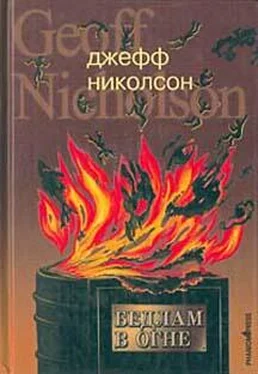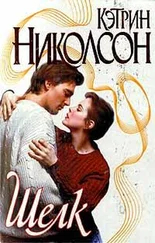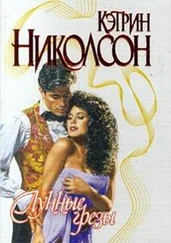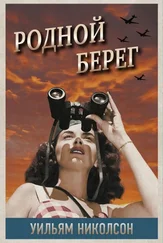Как-то раз я сидел у себя в хижине и вдруг почувствовал странный запах – словно подгорели овощи. Сначала потянулись струйки дыма, затем – целые полосы, наконец хижину наполнили удушливые белесо-серые клубы. Я выбрался из-за стола, встал в дверях и вгляделся в сад. Источник дыма находился за кустом рододендрона. Я решил выяснить, в чем там дело, хотя и так знал, что увижу. Ничего зловещего – всего лишь Морин сжигает садовый мусор. Она сложила маленький бесформенный костерок из веток, сорняков, срезанной травы; кучка была ярко-зеленого цвета и гореть не желала. Морин и Реймонд с несчастным видом взирали на костер.
– Как дела? – спросил я.
– Неважно, – сказала Морин, и голос ее звучал одновременно грустно и недоуменно.
Реймонд отогнал от лица дым затянутой в перчатку рукой и пробормотал:
– Говорят, нет дыма без огня, но мы в этом не уверены.
В его словах имелся смысл. В куче тлеющего мусора не было ни проблеска пламени.
– Всем так нравятся костры, – сказала Морин. – Всем нравится смотреть на танцующие языки пламени.
– Знаете, что нам больше всего нравится в огне? – спросил Реймонд.
Я боялся, что он назовет какую-нибудь сексуальную ассоциацию или вспомнит об авиакатастрофах, разрушениях или очистительной силе огня, но все-таки сказал:
– Что?
– Нам нравятся лица, – ответила Морин. – Нам нравится, когда пламя гаснет и остаются лишь угли, а ты вглядываешься в угольки и видишь всякое-разное: лица, животных, футболистов и все такое.
– И авиакатастрофы, – добавил Реймонд.
– Да, – сказал я. – Наверное, всем это нравится.
– Но мы видим одно и то же? – спросила Морин. – Или видим только то, что у нас в голове? Знаете, как с чернильными кляксами?
Да, я знал про чернильные кляксы. Мы стояли, вглядываясь в середину дымящейся груды. Признаков пламени по-прежнему не было, и я вдруг подумал, что мы все очень расстроены.
– Вы ведь не расскажете Линсейду, что мы видим в огне картинки, правда, Грегори?
Я ответил, что не расскажу, – как не рассказал о пабе Макса и травке Черити. Я был рад, что больные считают меня союзником, доверяют мне больше, чем Линсейду, хотя никакой уверенности, что это свидетельствует об их душевном здоровье, у меня не было.
– Мне кажется, видеть лица в огне – допустимо, – сказал я. – Не понимаю, каким образом вы можете этого избежать. Не думаю, что это как-то повредит вам.
Морин с Реймондом улыбнулись мне, но я не вполне понял, что означают эти улыбки. Тогда я предпочитал думать, что улыбками пациенты демонстрируют свое доверие, показывают, что мои слова их успокаивают, но позже пришел к выводу, что на самом деле их улыбки говорили: “Да откуда ты знаешь? Ты всего лишь писатель”.
Вот тут они, разумеется, ошибались. Писателем я не был, но старался изо всех сил. Согласен, случались периоды, когда силы мои были на исходе, когда сочинения, продолжавшие литься угрожающим потоком, вызывали только жалость – как и сами пациенты. И все же, все же… Иногда мне казалось, что у них что-то получается, хотя я бы затруднился ответить, что именно, ведь сочинение – это не произведение искусства, не литературный шедевр, не вещь, которую можно показать всем и сказать: смотрите, как хорошо, видите, как качественно, осмысленно и с умом сделано. Что же тогда? Не сводится ли все к гештальту, к коллективному сознанию, как и предполагал Линсейд, или, на худой конец, к образам безумия, которые отражают социум и культуру нашего времени?
Но и эта идея не всегда работала. Случались периоды, когда меня охватывало чувство, что я, как и все остальные, даром теряю время; в такие минуты я в лучшем случае считал, что просто общаюсь с пациентами, уберегаю их от опасности, отвлекаю их. И, перетаскивая сочинения в библиотеку, я занимаюсь не чем иным, как сортировкой макулатуры.
* * *
Я шел по саду, когда услышал голос, и безошибочно узнал Андерса, хотя на этот раз он говорил мягко, сдержанно и даже задушевно. Казалось, он что-то описывает.
– Да, – услышал я его слова, – испанский галеон, и двухэтажный автобус, и носорог, и карта Италии или, может, просто сапог, и свиной рулет, и волны на берегу, и туалетный столик, и, о черт, как приятно.
Можно было подумать, что он рассматривает чернильные пятна, но такое занятие за пределами здания мне показалось маловероятным. К тому же Андерсу, судя по всему, дело это доставляло наслаждение. Меня разобрало любопытство. Андерс был не из тех людей, кого хочется тревожить или отвлекать, но я все-таки решился взглянуть – после того, как выслушал продолжение монолога: “Кресло, дельфин, лампочка, пигмей, легкое, труба и… о боже…” По счастью, я смог укрыться за кустом рододендрона.
Читать дальше