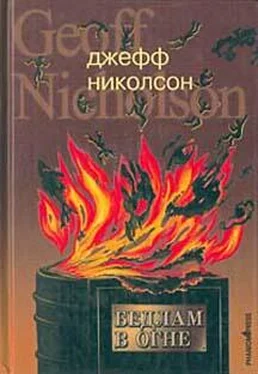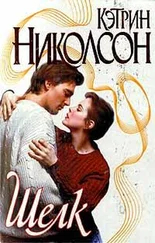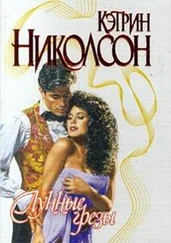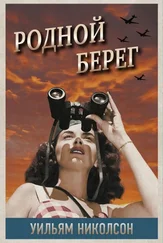– Кое-кто наверняка скажет, – продолжал Бентли, – что разоблачение обманщика, литературного или какого-либо иного, является абсолютным добром и именно к нему должен стремиться подлинно образованный человек. Нам, ученым, полагается любить истину. Но для тех из нас, кто изучает литературу, истина редко предстает в шаблонном виде. Искусство само может стать истиной, и тогда истина предстает в виде последовательности иллюзий, мистификаций, мошенничества. Быть может, все настоящие художники – шарлатаны. Хотя я не думаю, что вы считаете себя художником, правда, Майкл?
– Не считаю, – согласился я.
– Так о чем, в сущности, я толкую?
Хотел бы я это знать. А еще я хотел, чтобы Бентли прекратил издеваться. Он вел себя так, что человек начинал мысленно молиться, чтобы все это побыстрее закончилось. Очень предусмотрительно, очень профессионально. И очень избито.
– По-видимому, я толкую о том, что хотя налицо поистине убедительные аргументы в пользу вашего разоблачения и хотя я нахожу слегка поверхностными аргументы против вашего разоблачения, тем не менее я вынужден признаться в огромной симпатии к вам. И меня она весьма удивляет.
Меня тоже.
– Почему? – вопросил он. – Почему я склонен вам помочь? Быть может, все дело в том, что мне просто приятно ваше лицо?
Я мог привести причины и похуже, но вслух ничего не сказал.
– Еще одна причина, вероятно, заключается в том, что мне нравятся шутки. И должен признать, ваша шутка совсем недурна.
Ну да, то же самое он говорил об “Эмпайрстейт-билдинге” Уорхола, но тогда, похоже, речь шла совсем о другом.
– Наверное, в сущности, я толкую о том, что в настоящий момент пребываю в смятении. Я совершенно не знаю, как мне поступить.
– Не знаете?
– Не знаю. Но как только я приму решение, то не сомневаюсь, вы узнаете о нем одним из первых. А пока что я могу сказать? Продолжайте творить добро.
Бентли встал, повернулся ко мне спиной и зашагал к главному корпусу клиники. Я не шелохнулся. Непосредственная опасность, похоже, миновала – пока миновала, хотя угроза разоблачения никуда не делась, и я не сомневался, что наказание последует, пусть и не такое ужасное.
Сейчас-то я знаю, что нужно было сделать. Как только вечер закончился, как только Бентли со всеми остальными погрузился в автобус, мне следовало пойти к Линсейду и во всем признаться. Игра все равно была окончена. Мне долго везло. Может, я и не удалился бы со щитом, но по крайней мере при своих остался бы. Господи, да я мог просто исчезнуть.
Почему я этого не сделал? Да по банальным причинам: гордыня, инертность, трусость, секс. Все так перепуталось. Я испугался. Я не хотел, чтобы все узнали о моем обмане. Я не хотел, чтобы люди меня презирали. Я боялся разонравиться Алисии, боялся потерять ее.
Должен признаться, бывали минуты, когда я отчаянно надеялся, что ошибаюсь, что игра еще не окончена, что вот-вот произойдет какое-то событие, которое все изменит и исправит. Например, Бентли все-таки решит ничего не предпринимать. Или его переедет автобус. Или его зарежет взбесившийся студент. В Кембридже ведь случаются и более странные вещи. А может, у Андерса найдется знакомый киллер, которого я смогу нанять. А может, мне лучше проделать все самому – обеспечить себе алиби в клинике, а затем украдкой выскользнуть за ворота, добраться до Кембриджа и убить Бентли прямо в его квартире.
На самом деле я, конечно же, не думал, что все это реально. У меня и сомнений не было, что Бентли всем расскажет. Может, не сразу, но скоро, и непременно как-нибудь этак умно. Именно потому эти последние мгновения, эти последние деньки обладали для меня особой ценностью. Уезжать мне совсем не хотелось. Какой смысл признаваться? Лучше потянуть сколько получится. Я рассчитывал провести с Алисией еще ночь-другую.
Литературный вечер прошел, как и планировалось, с большим успехом – планировалось, разумеется, прежде всего самим Линсейдом. Он едва не лопался от самодовольства. Ну ничего, скоро все изменится. Пациенты тоже едва не лопались от самодовольства. Они так хорошо себя вели во время представления и после него, были такими послушными и кроткими, что непонятно было, что теперь с ними делать, хотя и не мне о том говорить. Мне было грустно с ними расставаться, и я надеялся, что они испытывают сходные чувства.
Ожидание было томительным, и в те дни я чувствовал какое-то беспомощное умиротворение. И еще я беспрестанно думал о Николе и Грегори. Я размышлял о том, как прошла свадьба, какой красивой Никола была в белом платье, спрашивал себя, надела ли она вообще белое, пытался представить торжественную церемонию, гадал, куда они отправились на медовый месяц. И все время задавался вопросом: сколько это продлится?
Читать дальше