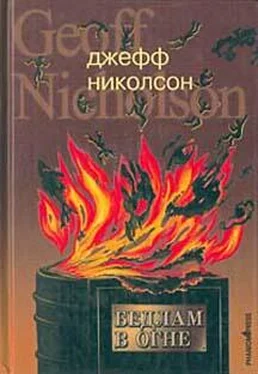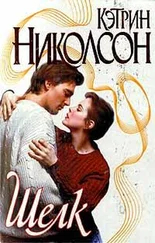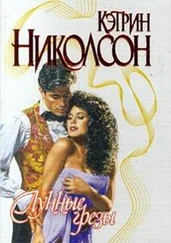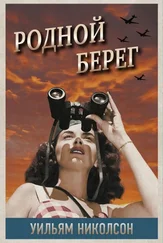Своими тревогами я поделился с Алисией, но она от них отмахнулась. Сказала, что работникам творческого труда свойственно выдыхаться после окончания работы, надо подождать, пока сосуд творчества наполнится вновь, ведь то же самое происходит и со мной. Меня также встревожило, что пациентов именуют теперь “работниками творческого труда”, но я подумал, что, возможно, Алисия и права. Быть может, они действительно выдохлись, вымотались. И даже если Алисия ошибается, заставить писать их снова я не мог. Кроме того, я читал Сэма Беккета и знал, что молчание не менее красноречиво, чем речь, акт неписания столь же выразителен, как и акт писания; просто такая ситуация оставляла меня не у дел, только и всего, – еще более не у дел, чем когда-либо. Словом, мне оставалось лишь бить баклуши. Впрочем, как и пациентам.
Освободившись от писанины, пациенты получили вдосталь времени, чтобы совершенствовать свое безумие.
Реймонд занялся созданием нового имиджа: синие с блестками тени для век, жгуче-красная помада и жемчужные ожерелья; он суетливо бегал по клинике, призывая всех немедленно пристегнуть ремни, ибо посадочная полоса жуть какая неровная.
Черити, по своему обыкновению, отплясывала нагишом, но танцы, по ее утверждению, стали более сосредоточенными и духовными. А еще Черити заявила, что видела лицо Будды на тарелке с тушеным мясом, которое состряпал Кок.
Кок теперь без устали твердил, что мир напоминает кроссворд, анаграмму, тайнопись, тайный язык, метафору, сравнение.
Байрон завел обычай бродить по территории клиники в байронической накидке с байронической тоской на измученном лице.
Андерса всегда можно было застать у стены или какого-нибудь дерева, по которому он неистово колошматил кулаками. Иногда мне хотелось, чтобы он дал хорошего пинка Карле. Та стала совсем уж несносной, плюхалась и шлепалась где ни попадя и вопила всякий вздор.
Морин продолжала ухаживать за садом, но работа не доставляла ей прежней радости. На ее клумбах выросла целая куча растений, но Морин не знала, какие из них сорняки, а какие – цветы. Она пожаловалась, что лучше бы занималась газоном для футбольного поля.
Даже Сита выглядела не такой спокойной, как обычно, хотя разговорчивей не стала.
Однажды на теннисном корте я застал Байрона с Максом – они играли в теннис не только без сетки, но и без мяча и ракеток, старательно имитируя подачи, свечи и удары с лета. Мне их поведение показалось вполне безобидным, но Линсейд ужасно возбудился. С его точки зрения, Байрон и Макс притворялись, что видят то, чего на самом деле нет, то есть они творили незримые образы, а это гораздо хуже образов зримых. Можно понять, почему Линсейд прекратил эту игру.
А затем произошел случай с пенисом.
Даже самые законченные гетеросексуалы, даже те, кто ведет замкнутую и скромную жизнь и нечасто посещает спортзалы или нудистские пляжи, видят, оказывается, не так уж мало пенисов. Совсем необязательно специально искать пенисы – рано или поздно сам на них натыкаешься. И это не считая тех пенисов, которые повсеместно встречаются в произведениях искусства и порнографии, которую, опять-таки, даже самые приличные из нас нет-нет да увидят. Но даже если бы на моем месте был человек, для которого чужой пенис – самое обычное дело, его бы все равно сбил с толку сверток, который однажды утром я нашел у двери хижины.
В начале семидесятых поставили эксперимент: некая общественная деятельница, апологетка феминизма, заявлялась в какой-нибудь женский коллектив, фотографировала половые органы дам, а затем демонстрировала им снимки. Было сделано важное открытие: большинство женщин не могут узнать самих себя. Они не знают, как выглядит их половой орган, и этот факт неоспоримо свидетельствовал об их угнетенном положении, о тирании мужчин, об отсутствии контакта с собственным телом и так далее. Наверное, во многом эти утверждения справедливы. Думаю, почти каждый мужчина знает, как выглядит его член. С другой стороны, если какой-нибудь мужчина подвалит к вам с предложением сфотографировать вашу кочерыжку, мне кажется маловероятным, что вы назовете его общественным деятелем.
Я вскрыл сверток и нашел внутри предмет, который не мог быть ничем иным, кроме как отрезанным мужским детородным органом, и хотя я не “узнал” его в традиционном понимании этого глагола, но был почти уверен, что знаю, кому он принадлежит, – точнее, принадлежал. Я не сомневался, что передо мной пенис Чарльза Мэннинга. Я никогда не размышлял над тем, как выглядит пенис Чарльза Мэннинга, да и нельзя сказать, чтобы пенис находился в естественных условиях, и все же предмет в свертке не мог принадлежать никому другому. Никто, кроме Чарльза Мэннинга, не мог совершить такой поступок.
Читать дальше