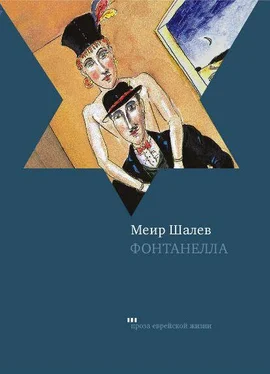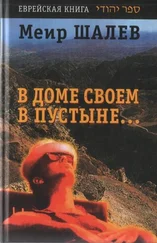Вначале мы ее не узнали. Без отца, без матери и без автобуса она была совсем другая. Но когда она достала из багажника маленькое ведро и тяпку, мы поняли: это она, и так же, как они с матерью начали приезжать без отца, так отныне она будет приезжать без матери, и не на автобусе, а на этой маленькой «Симке-алеф», которая в будущем сменится большей машиной, и у нее появятся муж и двое детей, сын и дочь, серьезные, с опущенной головой.
— Когда-то, когда вы еще не родились, у вас был дядя-летчик, брат вашей мамы, и тут он погиб.
И была еще одна перемена: в руках сестры летчика были не только ведро и тяпка, но и книжка. Мы поняли, что она намерена посидеть на могиле брата и почитать, и деревня расчувствовалась и напрягла глаза: проза? стихи? Брови сдвинулись, взгляды сфокусировались, но на расстоянии пятидесяти метров только моей фонтанелле удалось разглядеть. Я улыбнулся про себя: стихи.
Сестра летчика оставила машину на обочине дороги и пошла к кипарису. Большие просторы пустынных полей подчеркивали одиночество ее удалявшейся фигуры, и одна из стоявших с нами девушек, которая еще не родилась, когда разбился самолет, вдруг начала плакать. Все стоявшие тотчас присоединились к ней и с искренней печалью, в которой было и облегчение, извлекли из карманов платочки, беленькие, как египетские цапли, собравшиеся для ночного сна под пальмой, а мой отец, стоя, как и каждый год, рядом со мной, вдруг шепнул мне на ухо:
— Пойди за ней, Михаэль. Я хочу, чтобы ты с ней познакомился.
Я испугался. Не содержание его слов меня испугало. А то, что эти слова прозвучали, как завещание.
* * *
Он умер, когда мне было двадцать пять, возраст нынешних Ури и Айелет. Всю неделю перед этим меня томили часы и минуты неясной тревоги. Ее источником была моя фонтанелла, понятно, но в отличие от других предсказаний, которые я извлекал из нее, на этот раз к нему не прилагались ни адрес, ни имя жертвы.
Я пошел поговорить с Габриэлем. Сказал ему:
— Не знаю кто, но кто-то здесь скоро умрет.
Он рассмеялся:
— Успокойся, Михаэль, и перестань говорить, как наш дядя.
Я перестал говорить, как наш дядя, но успокоиться не мог. И когда, спустя несколько часов, позвонил телефон и Габриэль сказал: «Да, он здесь», у меня подогнулись колени, и я уже знал, о чем идет речь. Габриэль тоже знал. Он протянул мне трубку, «это твоя мать», и вот уже меня обняли его сильные быстрые руки и осторожно усадили на одну из деревянных ступенек.
— Михаэль, — сказал ее голос, — если тебе не трудно, сходи и принеси твоего подохшего папашу из дома этой Убивицы.
Я был потрясен. Не только стилем и не только быстротой, с которой оправдалось мое пророчество, но и тем фактом, что тот десяток шагов, которые нас разделяли, моя мать предпочла преодолеть по телефону, а не ногами или позвав меня через окно.
— Ты можешь взять тачку для отбросов, — добавила она.
— Что за чушь ты несешь?! — крикнул я, а она — наверняка услышав меня и по телефону, и по воздуху, в два своих уха и в два моих голоса — сказала:
— И у нее еще хватило наглости заявиться сюда, ко мне, чтобы сообщить, что случилось. И хочешь знать, как она вошла? Через ту вашу дыру, которую вы с ним пробили в стене! — И швырнула трубку раньше, чем я успею сказать что-либо, что нанесет ущерб сапфировому сиянию ее праведности.
Я встал. Посмотрел в окно на его и ее дом, и из меня вырвался всхлип. Короткий йофианский всхлип. Как будто маленький теленок на миг поселился у меня в горле. Я сказал Габриэлю:
— Мой отец умер, — и пошел к Рахели.
Рахель сказала:
— Я знаю, она позвонила сюда тоже. — И вдруг ее щеки тоже стали мокрыми от слез. — Поверь мне, так лучше. Представь себе, каково ему было бы стареть и слабеть возле нее, выслушивать ее замечания, и упреки, и эти ее: «Я тебе говорила…» — И, смеясь сквозь слезы, добавила: — И он хотя бы умер так, как ему подобало, у самой близкой своей «цацки», такой, что и мы ее знаем, и не нужно идти далеко, чтобы его привезти, не у какой-нибудь чужой женщины.
Убивица, одетая и, несмотря на летнюю жару, закутанная в одеяло, сидела на краю их кровати. Увидев меня, она прошептала:
— Он очень любил тебя, Михаэль. — И потом: — И меня тоже. Это была любовь. Так он сам сказал мне — давай решим, что отныне это любовь.
Я взглянул на его спокойное гладкое лицо, коснулся еще теплой груди, руки, уже начавшей холодеть, хотя и медленней, чем я думал, от пальцев в сторону тела. На этот раз он не успел растереть в ней апельсиновые корки, и мне подумалось, что именно сейчас, после его смерти и только от его тела, я чувствую его настоящий запах: запах любви, который при жизни он хотел скрыть и заглушить.
Читать дальше