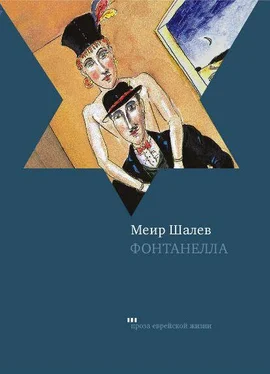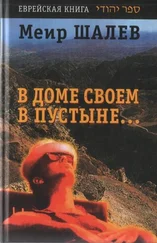— Что случилось с мальчиком? Что вы ему сделали, я хочу знать! Что вы с ним сделали?
И тогда — дверь распахнута и его голос: «Оставь его, Габриэль, все в порядке, ты уже можешь его отпустить», — и я бегу по краю пшеницы, и пересекаю поле, и падаю в мелкую воду вади, вскакиваю и снова бегу, пока не лишаюсь сил, и сваливаюсь на рельсы, и понимаю, что в свои неполные шестнадцать лет — осиротев, овдовев и утратив свое детство — я теперь во всех отношениях взрослый мужчина.
Наутро я не знал, была она со мной или это мне привиделось во сне. Я думал, что ночью у меня открылись раны и кровотечение привело к потере памяти. В ужасе я проверил свою простыню, но она была белой и свободной от улик. Я пощупал живот и бедра, понюхал кончики пальцев. Запах, как и память, тоже был неясным. Ни крови, ни семени, ни, судя по всему, молока. Не запах Ани, и не мой запах, и не какая-нибудь смесь наших двух запахов, которую я мог бы придумать или вообразить. Но я ясно помнил, что она сказала: «Скоро утро, дай мне уйти…» — а я просил у нее произнести мое имя, и она сказала: «Оно написано на табличке в ногах кровати».
Назавтра врач сказал, что мое выздоровление продвигается хорошо и поэтому я могу провести конец недели дома. Командир части передал, что пошлет мне военную санитарную машину, чтобы я мог ехать с удобством, но Габриэль сказал ему, что военная санитарная машина есть у нас дома, а Жених предложил хоть и старый, но более удобный «траксьон-авант» и даже согласился, чтобы Габриэль повел машину вместо него.
Машина взобралась по аллее кипарисов, погудела, отец открыл ворота и помог извлечь меня с заднего сиденья. Я с трудом встал, подняв в воздух «ногу-которая-болит-болыпе», осторожно оперся на «ногу-которая-болит-меньше» и, не удержавшись, навалился, почти повис на левом плече отца и на правом плече Габриэля.
Обрубок отцовской руки прижался к моей спине.
— Я рад, Михаэль. — Его лицо светилось. — Я рад видеть тебя на ногах.
Откуда-то появилась бутылка вина, выскочила пробка, мама вышла, подождала с похвальным терпением, пока мы прикончили яд, сказала: «С возвращением домой, Михаэль!» — и, побыв с нами еще несколько минут, сказала, что ей нужно замочить зерна хумуса для «гостей», и ушла.
«Священный отряд» уже установил во дворе свой вигвам и поднял над ним свой флаг. Патрульный джип с торчащим на нем пулеметом и вращающимися антеннами стоял сбоку со снятой маскировочной сеткой, укрытый под большим лимоном. Двое ребят из отряда, бывшие кибуцники, уже вернули к жизни старый душ возле барака, и влажные полотенца повисли на веревках, протянутых от веток красной гуявы. Третий парень, иерусалимец, колдовал у чугунного котелка, что висел и бурил над маленьким костром.
— Большое тебе спасибо, Михаэль, — сказал он. — Благодаря тебе мы получили отпуск на двадцать четыре часа.
Чугунок на огне порадовал мое сердце. Это был тяжелый горшок для варки, с толстыми стенками, который «Священный отряд» брал с собой на все сборы. В нем всегда готовился какой-нибудь сюрприз: то куски пойманного по дороге дикобраза, то подстреленный дикий кабан, то гусь, экспроприированный в одном из деревенских дворов, а то и молодой ягненок, приобретенный в одной из их странных бартерных сделок, — а также похлебки из чечевицы и риса, острой фасоли и овощей.
Моя кровать тоже уже ждала меня, но не в доме родителей, а на деревянной веранде. Они отнесли меня туда и уложили на воздухе, с видом на простор. И снова меня удивила глубина борозд, врезанных в мою память: вот большая равнина, там отдаленные холмы, с северо-запада возвышается Кармель, вот поле, проселочная дорога, пожар, кипарис, ее приезд, ее отъезд. Точно такие же, какими я вижу их и сегодня — несмотря на прошедшие годы, и на кварталы, и улицы, окончательно загородившие даль.
Дедушка, весь волнение, подливал нам еще яду из змеевика Арона, Гирш Ландау угощал нас своими «кошачьими язычками», а Рахель обняла меня с большой осторожностью, чтобы не причинить боль, и сказала:
— Сегодня ночью ты еще можешь спать дома, но когда почувствуешь себя лучше, не забудь свою тетку.
А через несколько минут после заката Пнина тоже вышла из своего дома:
— Я рада, что ты вернулся, Михаэль, как ты себя чувствуешь? — и посидела несколько минут возле меня, молчаливо улыбаясь в белом саване своей красоты.
Габриэль снял тяжелую крышку горшка, зачерпнул и наполнил десять мисок: Апупе, Гиршу Ландау, Рахели, себе, Жениху, отцу, «священным» и мне. Пнина сказала, что запах замечательный, но она «не чувствует голода», и вернулась к себе в дом. Рахель сказала:
Читать дальше