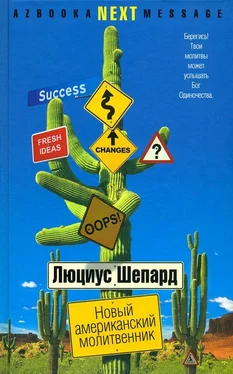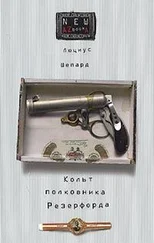— При чем тут спасение? Я совсем другим занимаюсь.
— Неужели? Вы открываете перед всяким человеком возможность преуспеть путем молитвы. Получив желаемое, человек может взобраться на него, как на ступень, и попросить о чем-то еще. И так далее, и так далее. Всякий, кто ищет возможность спасения, сразу же разглядит в вашем способе путь, ведущий именно туда, куда надо. Он увидит в нем лестницу, поднимаясь по которой шаг за шагом человек мало-помалу восходит к грозному внутреннему совершенству.
— Звучит как-то устрашающе, — сказал я.
— Идея существования Бога никогда не казалась мне иной. Я бы ни за что не выбрал Иегову себе в отцы, даже когда он добрый. Да и тот бог, о котором вы пишете, Бог Одиночества, готичный чудак в черной одежде, с усами и черным ногтем… при всей фантастичности его характера, он представляется мне весьма далеким от благодушия.
Я подумал о человеке, которого встретил возле «Эль-Норте», и от беспокойства что-то внутри меня екнуло.
— Но я нигде не говорил про черный ноготь.
— Говорили.
Он взял экземпляр «Молитвенника», лежавший рядом с ним на стуле, и стал перелистывать. Поля книги пестрели карандашными заметками. Потом он подтолкнул ко мне томик, раскрытый на молитве, которую я написал в июле, за два месяца до разговора с человеком у «Эль-Норте», и ткнул пальцем в нужный фрагмент:
Взгляни наверх, сквозь лиственную сетку дней,
туда, где Бога нет, такого даже, который
влюбленных разлучает
движением мизинца одного,
того, чей ноготь изукрашен черным.
Молись о том, чтоб было знать дано то, что и так
ты знаешь,
как если бы то знанье молнии писали на полотне небес.
— Но я же не говорю напрямую, что речь здесь идет о Боге Одиночества, — сказал я.
— А разве не о нем вы думали, когда писали эти строки? По-моему, очень на него похоже.
— Может быть… Да. Наверное, так и есть. Но как же я мог забыть, что сам написал это.
Роуэн так ловко находил ответы на все вопросы, что мне жутко захотелось задать ему еще один, в надежде на то, что, может быть, он поможет мне избавиться от смехотворной идеи, будто тогда, в Ногалесе, я говорил с существом, которое сам же и придумал. Но я побоялся показаться идиотом и сменил тему. Вместо этого я спросил у него, о чем он помолился.
— Седьмой канал пригласил на теледебаты с вами Арли Макмайклза, проповедника самой большой протестантской церкви в Детройте, — сказал Роуэн. — А мне очень хотелось с вами встретиться, и я знал, что, когда у них случаются какие-нибудь накладки, они могут пригласить и меня. Вот я и решил испробовать, на что способен новый стиль, и помолился, чтобы на этот раз у них что-нибудь не вышло. Через два дня Арли выпал из списка кандидатов. Какое-то срочное дело. Вот тогда-то они мне и позвонили. Простое совпадение, конечно. Было бы нелогично объяснять это чем-то еще, например тем, что молитва может работать. — С этими словами он забрал «Молитвенник» и громко его захлопнул. — Но мне очень хочется в это верить, мистер Стюарт. Вы искушаете меня верой.
В ту ночь в номере отеля «Ренессанс Хилтон» я перелистал «Молитвенник» и нашел более сорока прямых указаний на Бога Одиночества, не считая множества неопределенных отсылок, включая и ту молитву, которую показал мне Роуэн: она была написана с целью помочь одной молодой домохозяйке из Першинга — той самой, что оставила на прилавке Терезиного магазина журнал с моим объявлением, — собраться с духом и избавиться от брака, заключенного когда-то по расчету. Я перечитал молитву, надеясь вспомнить, о чем думал, когда писал ее:
Молитва
для помощи Элизабет Элко в бракоразводном процессе
Полночь — час странного водительства.
Оспины алмазных звезд сверкают на упругой черной коже,
и змеи штопорами ввинчиваются в землю,
ища добычи теплой в крохотных кармашках глубины,
прорытых теми, кто не имеет ни глаз, ни слуха, ни души,
сокровищами чистого белка.
Волчьи духи воют на перевалах,
и ветер к ним доносит
запах не добычи, а бензина.
Дьявол убивает Африку.
Все это знают те, кто молит
о судьбе не столь определенной,
о свободе от старых обещаний,
данных в минуту боли,
от брака, скисшего и пожелтевшего,
как молоко, забытое в картонке,
от жизни, в которую ты втиснута,
как клипера модель в бутылку,
где нет теченья и не нужен парус, —
вот истинный прообраз твоей жизни.
Тиграм, что под конец придут
и унесут тебя, твою пронизав душу
сквозь ковер Вселенной, подобно нити из огня, —
им ведь безразлично, что у тебя на сердце,
чем жертвовала ты, о чем мечтала.
Больше состраданья у зимы или кинжала, чем у них.
Взгляни наверх, сквозь лиственную сетку дней,
туда, где Бога нет, такого даже, что влюбленных разлучает
движением мизинца одного, того, чей ноготь изукрашен черным.
Молись о том, чтоб было знать дано то, что и так ты знаешь,
как если бы то знанье молнии писали на полотне небес.
Молись о том, чтоб снова устремиться в мир,
покинув мини-вэн, застрявший в пробке,
и убивающие душу счета по закладным.
Молись об этом в час водительств странных,
когда мужчины в кондиционированном рае бара
следят как завороженные за бейсболом, политиками и войной,
а фар лучи, пронзив небытия темницу,
касаются зверушки юной, вышедшей из лунных теней,
и, в камень превратив ее, дают ей облик,
угодный ветрам и волшебству, измученным навеки
недвижностью ее уснувшей крови.
Молись, чтоб в чашу твоего вина
единая хоть капля истинного счастья пала.
Читать дальше