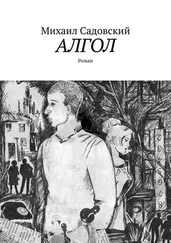— Закрыть глаза — послушать: тебе лет сорок… когда ты успела?.. Хорошо, что сегодня не тот год на дворе… не сажают.
— Хорошо. И год не тот, и день — не тот… а я хочу жить по-человечески, понимаешь?! А этого всё не видно.
— И что же?
— У нас в классе шесть человек — пять евреи, и я — по отцу русская, а по матери казачка… и я им завидую…
— Завидуешь? Чему? Тому, что с их семьями сделали Гитлер и Сталин? Ты не спрашивала их об этом? Им наверняка есть что порассказать, если не побоятся… Или ты завидуешь тому, что сейчас происходит, ты не знаешь, почему я за бортом болтаюсь и никак не могу взобраться на палубу?!
— Знаю. Потому что не на ту палубу карабкаешься! Понял? Она не нужна тебе… просто… даже наоборот!.. Ты знаешь, что такое этот союз, в который ты так стремишься… я слышу иногда, что мой папочка оттуда приносит… А я этим мальчишкам завидую потому, что они все могут хотя бы попытаться жить по-человечески… устроить свою судьбу… и не зависеть от людишек, которые диез от бемоля не отличают… или надо смириться, стать среднестатистической единицей, если выдержишь, а нет — так спиться или найти верёвку…
— Слушай, сколько тебе всё же лет!? Ты из того поколения, на которое не падали бомбы, а я помню это, понимаешь… и представь себе, что можно по-другому смотреть на жизнь… не так потребительски что ли, не как собственник-единоличник.
— Вот. Ты потому туда и лезешь, что говоришь их словами даже. А у меня это от деда, наверно… отец не знает даже, где его расстреляли… и ты мне ничего не рассказываешь о своих родителях.
— Зачем? Они уцелели и тоже считали, что я ненормальный, необъяснимый, на рожон лезу… из всех творческих профессий больше всего писателей пострадало… а их поколению досталось больше всех… они вот, например, ни за что не хотят… хоть мамы и нет уже, не хотят, чтобы я женился на гойке… ты хоть знаешь, что это такое?
— Я ж тебе говорю, что у нас в классе одни евреи… и профессор тоже… они уже давно смеются надо мной, что я объевреилась… и правда — теперь ты!.. Тогда ищи свою Милку… по крайней мере, одним барьером меньше.
— Мы все мечтаем об одном и заняты одним делом — вырваться из своего круга… просто Милка стала раньше всех мечтать об этом — рвалась, как могла, из своей семьи, из гетто еврейского. Ты тоже мечтаешь убежать оттуда, что называется Родиной, я, как ты говоришь, карабкаюсь на какую-то палубу, чтобы подняться до круга, где мне кажется, смогу получить больше свободы… мир стронулся с места и разлетается со скоростью осколков после взрыва, и никогда им потом не собраться вместе! И кого ни спроси — всем плохо именно в том месте, где они находятся. Все рвутся, стремятся куда-то, достигают и начинают новую попытку, и никто не думает, что повторяет опять то, что прошёл — какое-то безумие в разделённом плотинами мире, сквозь которые мы все просачиваемся, как вода в половодье.
— Додик! Ты это что: просто сейчас говоришь… или ты уже написал заранее… может, давно… или даже уже напечатал, или читаешь чьи-то страницы?
— Если бы я мог опубликовать это — я бы никуда не рвался, ни на какие палубы… Я всё время думаю об этом. Ремесло писателя, как это ни парадоксально, вовсе не писать, а думать… но больше я ничего не умею… и там, куда ты смотришь, писатель — это тот, кто публикует романы, стихи, рассказы…
— А здесь?
— Тот у кого в кармане корочки, от которых довольно дурно пахнет.
Серый позвонил через два дня: «Приходи — есть для тебя подарок». Додик шёл знакомой дорогой в особнячок на углу Никитской. Земля уже подсыхала, и в воздухе носилась первая летняя пыль, ещё не прибитая дождями. Он уселся на скамейку в углу двора и сделал вид, что читает газету, отгородившись от окон — «Как в дурном детективе», — усмехнулся он сам себе. Серый прервал его мысли. Он прошёл мимо, делая вид, что ему нет никакого дела до человека, сидящего на скамейке, и бросил на ходу:
— Давай за мной! — Додик пропустил его на несколько шагов вперёд, медленно сложил газету и двинулся следом.
— Что за ерунда, в самом деле, — посетовал он, нагоняя товарища.
— Хорошая ерунда! Иванов на два месяца на пленер подался и оставил ключи, но я… как благородный рыцарь, зная, как страдает и мучается мой друг вот уж какую неделю, немедленно вызвал его и…
— Что, правда, ключи у тебя?
— Чёрт возьми, Додик! Ну, никакой романтики… поэтому вы и пишете такие постные книги про литейку и борьбу с комбайном.
— Ладно… Румяный критик мой… не продолжай — он ждёт нас.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу