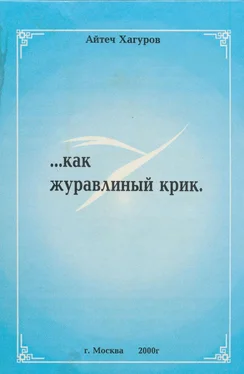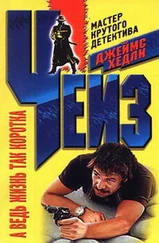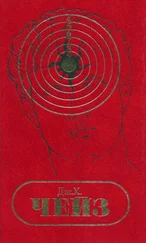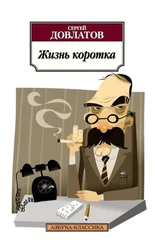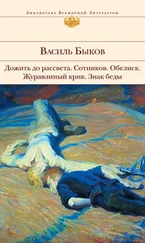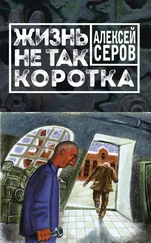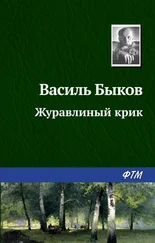Все мои притязания кончились тем, что вернулся к своей телеге. Место в ней оказалось вакантным, да и заднее левое колесо как оставил сломанным в сорок первом году, так и осталось подлежащим ремонту. «Однако, если говорить без шуток, по — серьезному, — вмешался тамада, — то надо признать: что‑то неладное творится в государстве, в котором должности раздают не по заслугам. Я говорю, конечно, не о себе, я как раз соответствую своей должности, я говорю о том, что каждый из нас видит. Вы там в институтах работаете, очень грамотные и, конечно, больше меня знаете, но я честно скажу — многое не понимаю».
— Ты, Магомет, как будто с Луны свалился. Неужели не знаешь, что надо учиться, чтобы стать начальником. А ты никогда за парту не садился, — кричал возбужденный алкоголем и рассказом Магомета рыжебородый мужик, совсем не похожий на адыга.
— Во — первых, я сидел за партой четыре года, умею читать и писать. И считаю, этого достаточно. А дальше человек должен сам учиться всю жизнь.
В том хваленом институте, который ты закончил, тебя только учили. Но ты сам не учился и потому ни хрена не знаешь. Если честно говорить, я по крестьянскому делу профессор, а ты, закончивший сельхозинститут, годишься мне… — как там у них называется человек, помогающий профессору?..
Пошли подсказки всякие. Одни сказали, что это доцент, другие, что это лаборант, третьи — ассистент. Кто‑то вспомнил, что мы с
Маличем вузовские работники и тогда обратились к нам за консультацией. Малич, продолжая юмор Магомета, сказал, что уровень рыжебородого по сравнению с Магометом чуть выше лаборантского, но ниже ассистентского и не в коем случае не доцентский.
Рыжебородый, конечно, не обиделся, сказал, что полностью со всем согласен, но просит его дальше не топтать. Тамада — «великан», стремясь поставить последнюю точку в споре спросил рыже-, бородого:
— Если образование есть главное условие карьеры, то почему нынешний секретарь райкома, который с тобой учился, свой пост занимает, а ты всего — навсего рядовой агроном?
Вопрос всех взбудоражил и с разных сторон посыпались ответы на него.
В это время в комнату вошел один из родственников хозяев и сообщил, что во дворе начинается «состязание за кожу». Здесь надо читателю пояснить, что это такое. До революции одним из главных зрелищ на свадьбах было это состязание. В круг всадников кидалась баранья кожа и они начинали ее отнимать друг у друга. Начинались состязания в силе, ловкости всадников и быстроте их коней. Побеждал тот, кому удавалось от всех удалиться с кожей. Доказав всем, что его бесполезно преследовать он победоносно возвращался в свадебный круг. Сама по себе кожа не имела ценности, разыгрывался престиж, который получал победитель. За годы советской власти у шапсугов и бжедугов это свадебное зрелище почти исчезло. Здесь у чемгуев оно сильно модернизировалось. Во — первых, состязаются пешие, во — вторых, в круг кидают не простую кожу, а кожаный мяч, в котором зашита какая‑то сумма денег. Интрига состоит в том, что никто, кроме хозяина, не знает, сколько именно денег вложили в мяч. Заранее пускают слухи о больших суммах.
Я попросил Малича показать это состязание. Мы вышли во двор, где было уже много народа. Участвовать в состязании приготовились ребята 14–16 лет, остальные были в роли зрителей. Неожиданно из двери основного дома вышел хозяин и кинул в круг кожаный предмет, по размеру и форме похожий на боксерскую грушу. Как оказалось, эта груша была смазана бараньим жиром и поэтому долгое время выскальзывала из всех рук. Наконец, один из парней прижал ее двумя руками к груди и, расталкивая всех головой и плечами, пробрался к калитке и стремительно пустился прочь. Погнавшиеся за ним вернулись ни с чем. Мы с Маличем пришли в свою
компанию. За это время в нашу компанию влились двое приглашенных русских мужчин и сразу им дали слово.
Тост говорил уже второй. Говорил он хорошо, отметил, что уже не первый раз имеет застолье с адыгами, но никак не привыкнет к тому, что за столом нет женщин. Когда выпили, тамада — «великан» стал пояснять русским гостям, что отсутствие женщин в мужском застолье есть как раз признак уважения и почитания женщин. Во-первых, застолье на то и застолье, чтобы пить, а мы мужчины много пьем. Зачем женщин к этому приобщать? Во — вторых, мало ли о чем мужчины могут говорить, они могут и грубые слова говорить. Зачем женщинам это слышать? Потому у них свое застолье, у нас — свое.
Этот разговор затронул родную стихию Малича, глубокого знатока и истории, и обычаев народов Северного Кавказа, и, в частности, нашего адыгского народа. Он пояснил русским друзьям, что разделение мужчин и женщин в адыгском обычае (ведь и дом делится на мужскую и женскую половины) не есть признак дискриминации женщин. Все это есть лишь акцент на различия по полу. Объясняется оно, в свою очередь, тем, что адыгский народ формировался в период перехода от матриархата к патриархату и поэтому фактор пола у них подчеркивается во всем, в том числе и в бытовых отношениях. Различие по полу определяет и физическое и психологическое различие. В этих различиях они не могут быть одинаковыми, и только в этом смысле они не равны. Вот что имеет в виду наш обычай. Ответ Малича стали обсуждать между собой.
Читать дальше