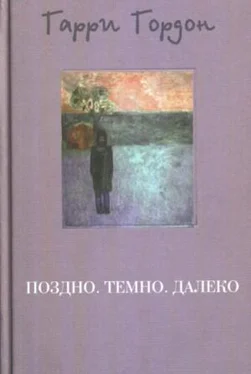В ранней юности, занявшись живописью по-настоящему, Костя много времени провел в гостях, в родительских домах своих друзей. Его кормили, укладывали спать и почему-то жалели.
У него были отец и мачеха, и бабушка, и полдома на Пересыпи, рабочей окраине, славившейся некогда темными ночными разбоями. Отец его, капитан порта Каролино-Бугаз (одно название — землечерпалка, баржа и два крана), был недоволен новым Костиковым увлечением, он считал рисование делом не мужским и позорным, и, встретив однажды своего сына с красавцем художником Эдом Павловым, принял того за педика и категорически запретил Костику с ним встречаться.
Новая жизнь требовала непрерывного общения с новыми друзьями, споров за стаканом вина и ослепительных озарений. Уже тогда чувствовал Плющ свою отдельность.
Друзья учились в художественном училище. Поступить туда Плющу мешало два досадных обстоятельства: не на что было купить аттестат зрелости или хотя бы справку об окончании восьми классов, и главное — чудовищная врожденная безграмотность. Он мог сделать в слове «абрикос» четыре ошибки: «оберкоса». Друзья пытались помочь, заставляли писать диктанты, он соглашался даже, но неизменно писал, как слышал, вернее, как хотел.
В училище Плющик был своим человеком, он мог зайти в мастерскую любого курса, ему давали место, и преподаватель распекал его, как и всех. Маленький рост, безукоризненная бандитская вежливость и имя «Костик», мешали многим относиться к нему серьезно. Между тем он в двенадцатилетнем возрасте складывал самостоятельно печь-голландку.
Море над портом пропадало, превращалось в небо, появлялось вновь у горизонта небрежной голубой растяжкой. «Прямо Рауль Дюфи», — подумал Плющ равнодушно, с некоторой даже досадой. Он поднялся со скамейки. Надо пойти в «Бристоль» отметиться.
Интуристовская гостиница «Красная» действительно называлась до революции «Бристоль». Располагалась она на улице Пушкинской — на этот раз без понта, действительно самой красивой улице в мире, так по крайней мере заявляли постояльцы гостиницы, туристы со всех сторон света. Был при гостинице ресторан, был и бар, обыкновенная, на первый взгляд, стекляшка с двумя дверями на улицу.
После знаменитого «Гамбринуса», потерявшего свое значение в незапамятные времена, по смерти не так даже Сашки-музыканта, как Александра Ивановича Куприна, после, особенно, переселения «Гамбринуса» с Преображенской на другое место, на престижную Дерибасовскую, бар «Красный» стал местом, где собиралась вся Одесса. Да и «вся Одесса» изменила свой облик. Вместо рыбаков, биндюжников и щипачей, ее представляли теперь фарцовщики, валютчики, художники и поэты. Проститутки, разумеется, остались, но и те претерпели изменения, называясь теперь манекенщицами, танцовщицами филармонии и продавщицами книжных магазинов.
Валютчиков и фарцовщиков, естественно, привлекала сюда зарубежная клиентура. Молодых художников и поэтов — дешевизна напитков и демократически настроенные бармены. Можно было вести себя кое-как, иногда лишь бармен Аркадий покрикивал: «Слава, выведу. Карлик, тебе хватит». Маститые же члены творческих «Спилок», Союзов значит, бывали здесь и потому, что рядом (Союз писателей находился в соседнем доме, где жил О. С. Пушкiн, как гласила мемориальная доска), и потому, что это Пушкинская, и пес его знает еще почему.
Это был Эдем, где за одним столиком мирно пили водку волчара председатель «Спилки Письмэнныкив» и молодой поэт, асоциальный разгильдяй, что не мешало их основным отношениям — матерый делал все, чтобы не принять своего собутыльника в Союз.
Представители же криминального мира жили здесь сами по себе, диффузии никакой не происходило. Встретившись где-нибудь на улице, художник и валютчик раскланивались друг с другом, здесь же как будто не замечали. Эта выработанная за несколько лет этика была удобна всем. Проститутки могли беспрепятственно садиться за любой столик. С поэтами они просто дружили, иногда угощая.
Бар был дневной, утренний даже, работал с восьми утра до пяти вечера, поэтому к закрытию здесь было особенно людно: не успевшие запланировать вечер поспешно стекались сюда. Здесь формировались компании, команды, отряды, отсюда они направлялись в разные концы города пить, спорить, петь старые песни.
В баре было прохладно и пусто, только за стойкой стояли трое. Один, высокий полуседой человек, лет за пятьдесят, — Измаил, старший брат Карлика.
Со времен Багрицкого он был первым в Одессе русским поэтом-евреем, принятым в Союз писателей. И то после четырех изданных книг и, главное, демарша, устроенного группой украинских поэтов. Они заявили в Киеве, что выйдут из Спилки, если Измаила не примут. Это грозило крупным скандалом, и киевляне, «помиркував», все-таки его приняли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу