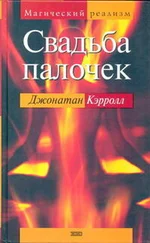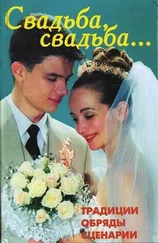— Куда? — отрывисто, преодолевая кипение.
— В больницу, — машинально, нерешительно, теряясь в догадках и не понимая, в чем дело.
— Хочешь знать, что я хотел бы? А? Сказать?.. Видишь эту кувалду? — протягивает в меня налитый свинцом кулак.
Не кулак — трехпудовая гиря! Что с ним?
— Вот этой кувалдой я очень хотел бы огреть чью-то челюсть!
Сказал так, будто сделал, будто, в самом деле, уже огрел по челюсти. Потом резко, обдав жаром ненависти, прошел в дом.
Ничего не понимая, я стоял, как побитый, и вопрошающе смотрел на трех женщин, тоже приросших к земле в оцепенении.
— Ты не должен был с такой уверенностью выдавать Кирилла, — сказала Нинуля с едва заметной иронией.
Ах вон оно что!..
Я сел на ступеньку и зажал голову руками. Вот уж чего не ожидал — так не ожидал. Ситуация была стыдной, нелепой и отвратительной, в особенности, из-за присутствия Гришиной дочки. Ее юная красивая мордашка, глаза, как два жемчужно-голубых алмаза, тоже, казалось, просверливали меня насквозь. Самое страшное, когда осуждают дети.
— Он хочет, чтобы мы уехали сегодня, пойди объяснись с ним, — сказала Гришина жена и, вместе с дочерью, пошла в дом.
Наконец, мы остались с Нинулей одни, и я узнал о том, как все друзья, которые слышали мой разговор с полицейским начальником, осуждают меня за предательство, якобы, невинного Кирилла. Оказалось, что Полюся, следившая за ним весь вечер, все видела и всем растрещала, что не он стрелял в Хромополка, а тот сам нечаянно выстрелил в себя из нагана, который был у него в кармане. Наган, якобы, сам выстрелил во время завязавшейся между ними потасовки.
— А как же выстрел в лицо? Ты же видела, сколько крови было под щекой и шеей.
— Не знаю.
Я тоже не знаю. Если бы перед моими глазами взорвалась сейчас бомба, она, наверняка, была бы менее оглушительной, чем взрыв Гриши и все то, о чем сообщила Нинуля. Она стояла надо мной, запустив пальцы в мои волосы и прижимая мою голову к своему бедру.
— Дай ключи — я поехал.
— Не переживай.
— Я не переживаю. Просто наши любимые друзья решили постоять за выжившего из ума Кирилла. Не думаю, что у них что-то выйдет.
На этих словах снова появился Гриша.
Я уже стоял у открытой дверцы машины, когда по ступенькам стремительно сбежал мой вернейший товарищ, друг детства Гриша.
— Сказать тебе, кто ты? — его лицо бушевало мраком. — Сказать, а? Ты — сексот! Понимаешь? Сексот. Другого слова у меня нет.
— Гриша, как ты можешь?! Это же твой друг! — пыталась ухватить его за руку и оттащить от меня Нинуля. — Сам не слышишь, что говоришь.
Я толкнул себя в машину, хлопнул дверцей и, взревев всей мощью мотора, рванул ею назад, прочь отсюда по гаражной дорожке. В момент выруливания на мостовую и переключения рычажка на переднюю передачу рев мотора на мгновение стих, и я четко расслышал слова друга, брошенные мне вдогонку:
— И знай, моей ноги в твоем доме…
Окончание фразы потонуло в новом реве мотора и визге сорвавшихся с места колес.
Больницы по ночам, как и рестораны, живут полной жизнью. У приемного покоя негде было припарковаться. Полно народу. То и дело подкатывают машины, частные и скорой помощи, снуют санитары, канцеляристы, вся медицинская прислуга возбуждена и деловита. В зале ожидания — телевизоры помогают ожидающим коротать время.
Где Хромополк? Потапов? Александр Потапов?
— Ты сексот!
Я сексот.
У справочного стола, как на вокзале, — очередь. Благо, небольшая — впереди меня два человека. Хромополк в особой палате — палате для смертников — где не каждый выживает. Палата интенсивного лечения — в дословном переводе.
Слава Богу, жив. Бегу туда, отмеривая с десяток кварталов. Коридоры, развороты-повороты, лифты. Она совсем в другом крыле здания, эта палата. Вот уж где покой — слышно, как тишина звенит. Никого в нее не пускают. Только днем. Приходите завтра. Вашему другу сделали операцию. Он пока без сознания и под наркозом.
— Могу ли я увидеться с врачом.
— Он занят.
Что делать? Усаживаюсь в кресло. Беру журнал в руки. Ничего не вижу. Хромополк. Кирилл. Гулаг. Евреи — русские. Богров. Столыпин. Пушкину тоже пуля угодила в тазобедренную крестовину. Помню, как ревел, читая об этом у Вересаева. Сейчас его спасли бы. В Америке уж наверняка. Он умер от перитонита. Заражения.
— Ты сексот!
Я сексот. Заложить бандита — сексотство?
— Но ты не можешь утверждать с уверенностью.
Могу.
Могу, господа любезная еврейская публика. Я все могу. Никакие Полюсины галлюцинации и никакие ее родственные всхлипы не спасут мерзавца от возмездия.
Читать дальше