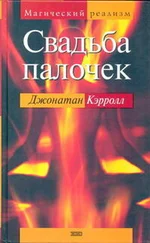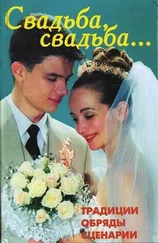Европеец по манерам и гуманистической универсальности, он явил собой образец сугубо русского нравственного максимализма, подменив жизнь идеалом такой высокой пробы, что в нем не осталось места ничему живому: ни человеку, ни человеческому Богу, ни животному, ни цветам, ни запахам, ни самой истории.
Как ни печальны пошлость и примитив массовых религиозных структур у нас и на Западе (масса везде — масса!), религиозная космология Бердяева, с ее кристальной очищенностью и духовной высокостью, еще печальнее, потому что в ней затаено жало верховного абсолюта, которому вообще все до лампочки. По его собственному признанию, толчком к метафизике послужило ему врожденное чувство брезгливости:
«Если бы меня спросили, отчего я более всего страдаю не в исключительные минуты, а во все минуты жизни и с чем более всего принужден бороться, то я бы ответил — с моей брезгливостью, душевной и физической, брезгливостью патологической и всеобъемлющей. Иногда я с горечью говорю себе, что у меня есть брезгливость вообще к жизни и миру. Это очень тяжело. Я борюсь с этим. Борюсь творческой мыслью и это более всего, борюсь чтением, писанием, борюсь аскезой, борюсь созерцанием красоты, уходом в природу, борюсь жалостью. И опять возвращаюсь к брезгливости и содрогаюсь от нее».
Как видишь, брезгливость была у него не простая, а золотая, то есть, — всеобъемлющая. Брезгливость не к чему-то частному и отдельному, а «вообще к жизни и миру». Не удивительно, что никакая волевая борьба с ней, никакие отвлекающие средства — чтение, творчество, созерцание красоты и природы — не помогают. Надо полагать, что даже поход к врачу вряд ли увенчался бы успехом, потому что это не частная болезнь рядовой особи, а универсальное мироощущение человека интенсивной, неутихающей мысли.
«Она (брезгливость) направлена и на меня самого. Я часто закрываю глаза, уши, нос. Мир наполнен для меня запахами (ясно, что вонью — иначе, зачем закрывать нос!). Я так страстно люблю дух, потому что он не вызывает брезгливости. Люблю не только дух, но и духи. Моя брезгливость есть, вероятно, одна из причин того, что я стал метафизиком».
Чудовищная штука. Смеяться над этим, конечно, грешно, а пускать пузыри — и подавно. И я стараюсь перекрыть клапана эмоций и рассуждать медленно, не суетясь, с подобающим тактом.
«Люблю не только дух, но и духи».
В этом крылатом признании кто-то может усмотреть нечто из будуарного антуража уставшей дамочки с филологическими наклонностями. Я — нет. Я почти уверен, что сближение духа и духов здесь тоже не простое, а золотое. Оно вовсе не принижает дух, а как бы удостоверяет его физиологически. Не смейся.
Дух и духи человек любит страстно, ко всему остальному — к жизни и миру вообще — настолько брезглив, что это заставляет его уйти в метафизику — в некоторую обитель чистой мысли и духа: «Моя брезгливость есть, вероятно, одна из причин того, что я стал метафизиком».
Вообще, Тихомирыч, я согласен, — смешно. Материал тянет, скорее, к пародии, нежели к серьезному обсуждению. Но я предельно серьезен и держу себя в рамках приличия. В конце концов, идея происхождения философа из брезгливости, как нельзя лучше, отвечает и моим собственным наблюдениям. Как я уже не единожды справедливо подчеркивал, все наши высокие порывы к подвигам и славе происходят из наших собственных родимых пятен и пятнышек. Под влиянием Николая Александровича Бердяева я вот тоже мог бы признаться, что моя картавость есть, вероятно, одна из причин того, что я стал писать. На письме ведь все волки серы, и картавость вроде бы не того… Не слышна. Еще чего доброго — могу и за нашего пролететь.
Так что с уходом в метафизику все в порядке.
А вот с брезгливостью?.. Не частной, которая всем нам в той или иной степени присуща, а всеобъемлющей, покрывающей весь объем жизни и мира! Как с нею-то быть?
Изломав себе голову и исцарапав лицо над этой загадкой, я стал подумывать о поиске такой жизненной детальки, которая, может, и мала, но всегда с нами, при нас и потому практически беспредельна — никуда от нее не денешься. Ясно, что мысль моя тут же ухватилась за наше устройство — за то, как устроено наше тело. А устроено оно, согласись, не лучшим образом. Рот — жвачное чудовище. Понаблюдай когда-нибудь за работой губ во время принятия пищи. Даже красавица, если тебе удастся сосредоточиться только на области работающих губ, вызовет отвращение. Но рот — ладно. Все время на виду — привыкли. А возьми немного пониже. Деться-то некуда, на горшок ходить надо. И каждый божий день, а то и почаще. А любовь! С одной стороны, — поэзия, да! А с другой? Послушай, что Синявский надиктовал своему вездесущему Абраму Терцу:
Читать дальше