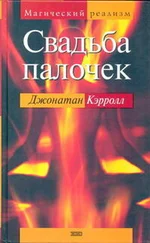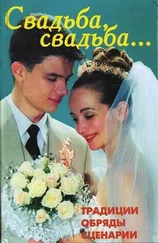Мне нравилась эта наша с ним беседа, впервые за все время спокойная, без всяких уколов, желчи, беглых ужимок и плоских поддевок. Впервые его круглое батыйское — как я раньше не нашел этого сходства? — лицо не только не раздражало, но, напротив, внушало доверие.
Я верил, что его отец верил им , что он верил в новый мир, в то, что сражается с настоящей контрой. Да, и душа, и руки у него, конечно же, были в крови. Но что поделаешь, вся человеческая история, со всеми ее фанфарами и пышностью — в крови! Слишком кровавы следы прогресса, — написал кто-то из молодых немцев после поражения отцов-нацистов.
Мы приходим в этот мир, мы выпадаем из мам отнюдь не на пустое место. Уже все заготовлено к нашему приходу. И святые идеалы, и высокие интересы, и любовь к народу, и знамя отчизны, и гордость, и ненависть к ненашим — и все, все. Если бы историю делали одни подонки, было бы и проще, и легче. Но в том-то и дело… В том-то и дело, что честные и порядочные. И убежденные, и искренние. Пырнуть сердце врага — удовольствие и подвиг. Главное — чтобы во имя.
Но можно ли без этого? Могут ли сдержать нас, перенаправить, что ли, какие-то совсем другие импульсы, какая-то совсем другая логика, другой тип мысли, причинности?
Не знаю. Если б могли, давно б перенаправили. И ума б хватило, и логики, и побудительного импульса. На расщепление ядра — хватило же! Почему же на расщепление стадности не хватает? А потому, по-видимому, что все наши моральные подпорки, все наши логичнейшие объяснения и оправдания — паутинка, душевно-интеллектуальный маскарадец. Мы привязаны к себе и своему не идеей, а животом, инстинктом, точно так же, как любая другая животная особь. Инстинктом стада, инстинктом территории, инстинктом свояка и чужака.
Какая уж моральная или национальная причина заставляет обычного домашнего пса помочиться обязательно на чужой территории и тем заявить какому-то другому псу о себе, о своем праве именно на этот клочок землицы?
Я слушал Хромополка и верил ему. Он рассказывал об отце. Мне не очень хотелось слушать об отце — наслушался уж этих историй по горло. Но все равно я слушал.
Слушал и верил.
Он рассказал, что отец его поплатился за честность. Он не обеляет его, но это так. Когда ему поручили арестовать его собственного друга, он вступился. Написал письмо в Высшую канцелярию. Дальнейший сценарий известен, хоть он и не всегда завершался столь эффектным финалом.
Его сожгли религиозники. Прямо в костре среди бела дня. Трещал мороз, трещали поленья, трещало и жарилось человечье мясо. Они тесной круговой стенкой — плечом к плечу — топтались вокруг костра и шептали слова молитвы, согревая над огнем задубевшие кисти рук. Оченно впечатляющая картинка. Хотелось поверить и в нее, но что-то мешало. Уж больно эффектно все выглядело. В костер они бросили его, вроде бы, не живьем.
Я говорю «вроде бы», потому что в какие-то моменты внимание отключалось. Вроде бы, перед самым костром за определенную мзду его свалил сперва ножом кто-то из уголовников.
Хромополк, закончив, умолк. Я тоже молчал. На языке вертелся вопрос, кто ему все это сообщил, но сорваться с языка и прозвучать — не вышло. Казалось, ему нелегко было это живописать, что тоже не способствовало полному доверию. Да, страшно, да, дико, если правда. Но расшаркиваться в сочувствии — чур не я.
— У кого ты вычитал о сотрудничестве с ордой? — спросил я твердо и внятно, обрывая тем самым и неловкость молчания, и неловкость темы.
Торчать на ней, казалось негоже, ибо, каким бы хорошим отец ни выглядел в глазах сына, — что, может быть, и похвально, и справедливо, — не мне по нему слезу проливать. Я был, скорее, с этими несчастными религиозниками, сосланными туда и обреченными на смерть просто за верность какому-то фантому веры, чем с ним, испепеленным их окостеневшими руками.
Собаке — собачья смерть?
Нет, и этих слов на сердце не было. Хотя, признаюсь, охота порой быть и злым, и жестоким, как любая другая нормальная тварь из породы людей, а не обретаться вечно за скобками слепого блуда и каждому рыку находить какое-то объективное — с чем его едят? — оправдание.
— У кого ты вычитал о мирном сожительстве с ордой? Не у Сулейменова ли?
— И у него, но главным образом — у Гумилева.
— Льва Николаевича?
— А ты его знаешь?
— Ну, конечно. Кто же этого дебила не знает!
Хромополк обалдел:
— Почему дебила?!
Я тоже не хотел так резко, но слово — не воробей.
— Извини, — говорю, — я не хотел так резко, но слово — не воробей. К тому же, он геем был.
Читать дальше