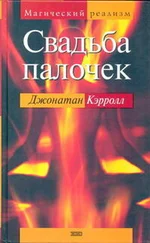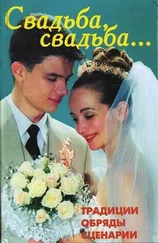А время никаких эмоций не проявляет. Несется к назначенному дню на всех парусах. Уже начало апреля. Они уже расстановкой столов заняты. Настолько заняты, что на меня — ноль внимания.
Как густо посажены звезды! В некоторых местах сплошная огненная пелена.
Светят себе и светят. Всем подряд. Ни выбора, ни оценки — тишь да гладь. Что же мы-то значим на их фоне? Ведь не фон мы, наверное, а тоже, наверное, часть того же вселенского вещества. Чего же нам не живется так же просто и спокойно, как им? Или вся идейная, чисто головная наша чехарда изначально заложена в химическом составе того материала, из которого мы все сделаны? Все? Да разве мы все из одного и того же материала сделаны? И евреи, и арабы, и русские? Да разве не по химическому составу мы так отличны друг от друга? Нет? Тогда по какому же? Что разделяет нас? Где оно, это самое первое, первичное, что ли, различие? В каких потаенных недрах нашей всеохватной, всеглагольной тьмы? А когда выползает на свет, то что оно такое?
Извержение или извращение? Гром или грим? Похоть или прихоть? Где граница между ними, между потребностью желудка и потребностью души? Между естеством нормы и естеством нрава?
Я такой же, как и ты, Леша-тихоша. Как и все вы. Я тоже дал увлечь себя в муть и жуть высокопарного пилотажа, не имеющего ничего общего ни с жизнью, ни с этой бесконечной звездоносной синью.
Свадьбы не будет. Поп или — я?..
Жизнь, жид, жито, жимолость, живодерня.
Свадьба будет без попа или без меня.
Что поп, это он — я догадался сразу. Мы только вошли в зал, как я тут же его распознал. По бородке, наверное. Хотя бороду кто только теперь ни носит? Знак ума и веса. Именно она и выдала.
Борода и еще эти давно не глаженные, вздувшиеся на коленях брюки. И какой-то грязно-белый свитер — неистребимая порода разночинца.
— Вообще говоря, я русский, хотя и родился в Германии, — сказал он на родном английском языке сразу после того, как нам его представили.
Кэрен, что ли, подвела нас к нему или Сашка — не помню. Мы приехали на свадебную репетицию. Нинуля, Мишка наш и я. Родители Кэрен, ее две сестры и брат, а также несколько общих друзей жениха и невесты. Все были в очень каком-то полуискусственном не то возбуждении, не то торможении. Мы приглядывались к родителям. Они — к нам.
Первая наша встреча с ними.
Она — тип русской учительницы, на вид — мягкой, но курит и значит с каким-то крепким стерженьком внутри. Он — работяга западного типа, не то поляк, не то немец.
Что и говорить, родство по высшему классу.
— Как хорошо, что вы тоже курите, — сказал я, поднося ей зажженную зажигалку.
Надо было о чем-то говорить, расшаркиваться, а что, как — никто не знал. Благо, какие-то общие, ничего не значащие слова, сопровождаемые жестами, мимикой, любвеобильными улыбками, срывались с уст. Мы — воспитанные люди. Наши деточки любят друг друга — и это главное.
— Прекрасное здание.
— Да. Усадьба.
— Здесь сейчас школа.
— Да, школа и вместе — интернат.
— Где же ученики? На каникулах?
— На каникулах, наверное.
— Да, здание прекрасное, только вот кондиционера нет.
— Ничего, мраморные полы и толстые стены.
— Что ж, будем надеяться, что они сохранят прохладу.
— Но еще лучше, если в день свадьбы жара нас все-таки минует.
— Сущий рай. И пруды.
— С рыбой?
— Когда я думаю о рае, я именно таким его и представляю.
— Да.
— Да.
— А какая библиотека! Вы уже видели ее?
— Нет еще.
Он повел меня в библиотечный зал. Нинуля осталась с матерью. Две дамы найдут общий язык.
А я поплелся за ним в храм мировой премудрости, где в торжественном и пропыленном полумраке высились стеллажи из тяжелого темного дерева, сплошь забитые толстыми старинными фолиантами. Мы обходили зал, приглядываясь к золотым тиснениям на корешках. Он комментировал, я слушал и восхищался.
У него высокий сократовский лоб и нос картошкой — прекрасный гибрид пролетария и завсегдатая интеллектуальных салонов. Он задержал мое внимание на томе Дидро, я наклонился, прочел: 1804, — и неподдельно промычал подобающее в этих случаях междометие. Оказалось, что он изрядно поднаторен в эпохе французского просветительства, знает проекты конституций Марата, теорию государства Гоббса и вообще в юности бредил революцией и социализмом. Благодаря им он не стал гоняться, как все, за университетским дипломом, а стал за станок.
Его рассуждения были непримиримы и прямолинейны, и к концу нашей прогулки я уже смотрел на него, как на своего давнего знакомого. Всезнающий рабочий класс! Ничего не попишешь — судьба, везение. Меня всегда бросает в объятия этой доморощенной учености.
Читать дальше