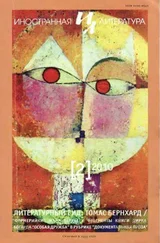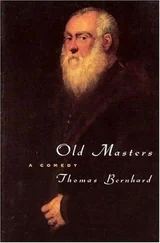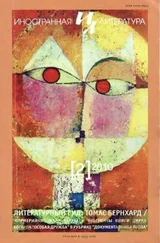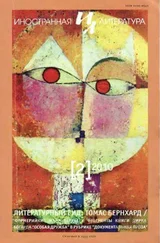Всё, в чем состояло его несчастье, открылось ему совершенно внезапно, «в тот день, если хотите знать, дату которого я мог бы вам точно назвать, как и описать людей, с которыми тогда общался; это были горожане, жители большого города, намертво прикованные к тому, что они сделали своим миром в жизненном пространстве какой-нибудь фабрики или в преуспевающем антикварном магазине в центре города, или кучкующиеся вокруг какого-либо изобретения, на котором они заработали уйму денег; или же это были просто счастливые люди, знать не знавшие, почему и откуда привалило счастье, их это не заботило, им даже в голову не приходило задаваться таким вопросом, с ними я постепенно вступал в многолетнее общение, которое подтачивало, страшно утомляло и отталкивало меня. Целые ночи проводил я в их обществе, просматривал горы фотографий; передо мной наизнанку выворачивались чужие мозги, рассыпались грязные шутки, и я вынужден был смеяться и смеялся, пил, и снова смеялся, и засыпал, часто на полу, а потом я вновь и вновь должен был всуе поминать имя искусства; и я был так жалок, что это, казалось, притягивало их, это убожество во мне, выражаемое всем моим видом, оно притягивало их, и они брали меня с собой, таскали по разным местам и хотели раз и навсегда срастить меня с их жизнью. И это длилось вплоть до того момента, до того самого дня, когда я понял, что должен обрубить концы и уже не поворачивать назад, поворот уже невозможен, и я просто поставил точку и начал свой путь, вдали от их мира, который не сходился с моим, лежал в другой плоскости, я хотел жить дальше в своей, что ни час убеждаясь в том, что нигде не нахожу своей стихии, ни там, откуда я бежал бесповоротно, ни там, к чему прибивался, и ни там, куда меня почему-то тянуло, толкало; так я, подобно беглому каторжнику, не разбирая дороги и путая следы, и бежал, только бы не попасть в руки преследователей…» Это и было его несчастьем — не иметь нигде прибежища, «вообще уже ничего не иметь».
«Представьте себе, — сказал он, — вы вдруг выходите из дома и идете по улицам, от одной бессмыслицы к другой, по улицам, которые сплошь черны, черны, и черные люди плывут в своем темном потоке и быстро, будучи столь же беспомощны, как и вы, проходят мимо вас… Вы стоите на какой-нибудь площади, и всё черно, всё вдруг меркнет внутри и снаружи, откуда ни взглянешь — черно и как бы взбаламучено и непонятно, чем взбаламучено, разрушено всё… Может, вы и увидите где-нибудь узнаваемый предмет, но всё сокрушено, и разорвано, и разбито; вы в первый раз обопретесь на свою палку, которую до сих пор использовали лишь как дубинку, отбиваясь от людей и собак, а теперь опираетесь на нее и плывете, точно по свинцовой лаве, а повсюду видно только одно — новая чернота… люди не знают, то ли это начало весны, то ли конец… на вас надвигаются буквы вывесок, они стягиваются ко всем углам и ополчаются против вас, они собрались в страшный кулак, как какая-нибудь революция, и разрушают в вас всё, к чему с надеждой на помощь обращены живые души и живые твари, когда вы в еще более безнадежном состоянии пытаетесь добиться лучшего… вы видите людей и зовете их, нисколько не стыдясь, вы пугаете их в этой атмосфере, постоянно возбуждаемой всеми ветрами… вы застегнули свой пиджак на все пуговицы, и всё на вас застегнуто, а в голове — страх, вы боитесь расшибиться, с размаху налететь на всё, что будет на пути… на эти сумочки и палки, на эти завалы из сумочек и палок. Вы думаете, что спустились сверху, а другие поднялись с самого низа, и в своем отвращении не можете помочь себе… эти массы людей, теснимых устремленными только вперед рывками часовых стрелок… Вы ищете укрытия на скамье парка, но здесь уже сидят те, что поумнее, и еще утром позахватывали все скамьи, и погрузились в чтение огромных книг, и сметают бутерброды с огромных листов оберточной бумаги… и вам открывается всё убожество государственных чиновников, вся низость социальной опеки стариков… и вы зажимаете голову собственными коленями и силитесь не погибнуть и слышите, как корчится мир в вашей головной боли, в фантастических судорогах, в страшном насилии воздуха… В вашей комнате вам грозят обрывки ваших воспоминаний, здесь — это птицы, эта невероятная, налитая неимоверной силой чернота, это неимоверно запредельное состояние, да будет вам известно, этот синтез мировой порочности и миропомешательства, куда вас толкают, как несмышленыша, — в это состояние, тормозящее все мыслимые человеческие процессы… Полицейские и тележки с овощами — всё прет прямо на вас, будто норовит стереть с лица земли… глас народа… это я еще ребенком ощущал, как губительный процесс в мозгу… того самого народа, который затемнил мне слуховые проходы… для всех этих впечатлений; к вашему сведению, я всякий раз, когда касаюсь палкой земли, пробиваю себе дырку в голове, всё, словно экстатическим взрывом ритма, осуждается на нескончаемое мучение в дни, когда дует фён…» Теперь с языка не сходит слово «самоубийство». Оно в каждой фразе. Оттопыренным большим пальцем, в котором заключена вся его телесная сила, он мнет всё вокруг, мнет самого себя, подобно тому, как с патетической выразительностью давят пальцем жучка, обнаруженного на мебели.
Читать дальше