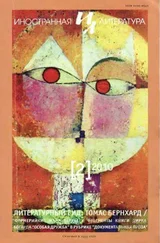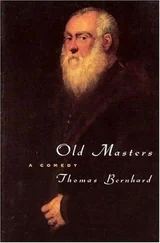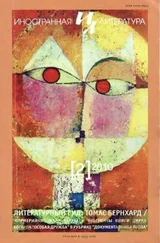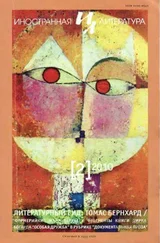Мы подошли к тому месту, где неожиданно открывается зев ущелья. Художнику хотелось непременно заглянуть сюда. Я процитировал одну фразу из моего Генри Джеймса, и он дал ей удивительное истолкование — непонятной, не понятой мною фразе, из-за которой я не мог уснуть всю ночь (должен признаться, еще никогда в жизни я не испытывал такого беспокойства, я вышел из комнаты, спустился в зал и выскочил из дома в холодный мрак, в «могильный холод», я побежал в лощину, а выходя из дома, накинул пиджак прямо на нижнюю рубашку, натянул брюки и сразу же бросился в темное пространство, в «бессознание тьмы», но я не мог понять самого себя, не мог ничего записать, ни о чем ничего вразумительного), а когда художник интерпретировал фразу Генри Джеймса и перед нами зияла теснина — почти затянутое глубоким снегом устье ущелья, он остановился и велел мне остановиться у него за спиной. Он не оборачивался, хотя начал говорить со мной. «Смотрите, — сказал он, — это дерево выдается и говорит то, что я поручил ему сказать когда-то, поручил огласить некий стих, непонятный, от которого мир, точно колесуемый, зависнет головой вниз, так называемое богопротивное стихотворение. Понимаете?! Это дерево выступает слева, а облако выплывает справа, облако со всего лишь исключительно нежным голосом. Я вижу себя творцом этого вечернего действа, этой трагедии! Этой комедии! И вслушайтесь: музыка вступает, безошибочно выбрав момент. Музыка сглаживает разнобой моих и всех сущих слов. Слышите, все инструменты творят ее совершенство, трагедия, комедия, все инструменты, все голоса, все обертоны и унтертоны. Музыка — единственная владычица двойного дна смерти, единственная владычица двойной муки, единственная владычица двойной терпимости… Музыка, слышите… язык приближается к музыке, язык уже бессилен обманывать музыку, он должен приблизиться к музыке, язык — это единственная слабость, язык природы, как и язык темноты природы, как и язык тьмы расставания… Слышите, я был в этой музыке, я есть в этой музыке, я выхожу из этого языка, я — в этой мирной поэзии предвечерья… Вы видите мой театр! Вы видите театр робости? Театр шаткости Бога? Какого Бога?» Он обернулся и сказал: «Бог — это сплошное великое замешательство! Чудовищное замешательство созвездий. Но, — продолжал он, приложив к губам палец, — давайте молчать об этом. Я хочу, чтобы всё сказало дерево, чтобы всё сказал ручей, чтобы небо всё сказало до конца, чтобы ад овладел наукой своих огненных страстей, я желаю этих огненных страстей, да будет вам известно, я призываю эти тени, чтобы они умерщвляли… всё и вся умерщвляли. Я сострадаю этой трагедии, этой комедии, во мне нет ни малейшего сострадания к этой трагедии, комедии, к этой лишь мною измышленной комитрагедии, к этим лишь мною придуманным теням, к этим мукам теней, к этим тенемукам, к этой бесконечной скорби…» Он сказал: «Подобный спектакль — порождение смехотворства, божественного смехотворства, такое действо, к вашему сведению, — не что иное, как хохот… Вы только вслушайтесь: мир поднимается из своей тесной тьмы в воздух, как и сам воздух, как и влага воздуха, как игра воздушных потоков… Да, — сказал Штраух, — а теперь я аплодирую, просто-напросто бью в ладоши, бью в ладоши и упираюсь головой в самый пуп вселенной, и всё было лишь призраком, всё было лишь призраком призрака, призраком тени. Понимаете?! Призраком тени». Мы идем в деревню. Он говорит: «Иногда голову заполняет усталость, как размытое театральное представление, как что-то бесконечно музыкально-демоническое, и разрушает меня. Это разрушает меня на пути к бессилию быть самим собой, на пути в тончайший, терпеливейший покой моей памяти, моего запустелого сердца». Он сказал: «Для меня достаточно просто сказать: «дерево», "лес", «скала», "воздух", «земля», а для вас, для окружения, этого недостаточно. Куда как просто взять и сотворить себе какую-нибудь травму, спектакль, комедию, червеобразный отросток комедии… Иной раз природа сворачивает кому-нибудь шею, природа без простоты, и тогда глаза открываются на эту беспредельную сложность ужасной природы. И тогда, в завершение, всё становится непонятным, непостижимее, чем когда бы то ни было. Я мог бы просто сказать: "Дерево выдается", и больше ничего. Я мог бы просто сказать: "Воздух запоминает", и больше ничего. Пойдемте. Пора в путь, не будем больше бояться».
«Вторжения человека в лес нарушают природное равновесие, — продолжал он, когда мы остановились на опушке лиственничного леса, там, где с обрыва видна река, напротив «катафалка». — Если эти человеческие набеги еще сотню-другую лет будут определяться хищно-утробным интересом, только и останутся эти жуткие картины умирающего леса, которые мы видим повсюду». Он сказал: «Этот ландшафт, как бы он ни примелькался, становится всё безобразнее. Он безобразен и угрожающе небезобиден, он полон зловещих осколков, застрявших в памяти. Он терзает человека, этот ландшафт с его темными провалами, дикими стаями, с взбухающим горем там, внизу, где тянут жилы из рабочих. Необозримая гиблость распадков, расщелин, всклокоченных склонов, ободранного кустарника, треснувших стволов. Всё смотрит враждебно. И нагло. Кроме того, всё здесь вечно пропитано целлюлозной вонью. Летом птицы в полной беспомощности шарахаются из стороны в сторону. Да еще эти угрюмые скалы: кажется, вот-вот задохнешься. Нигде стужа не лютует так, как здесь, нигде нет такой непереносимой жары. Неотступна мысль о том, что всё это смерть, так и знайте, всё это царство мрака, чудовищный абсолют… смерть — без всяких сомнений, явление бесконечности, момент небывалого плодоношения… Надежда может цепляться только за смерть, только за будущее». И еще: «Что можно сказать о толпе, которая не понимает смерти? Об этой массе, которая относится к ней с бессмысленной враждебностью? Эти табуны всегда перед глазами и тычутся в самих себя, в свои табуированные зоны…» Он направился в лиственничный лес и приказал мне пройти вперед. «Я часто наблюдал, как конные полицейские разгоняют и избивают толпу, повторяется одна и та же картина: дубинки и приклады обрушиваются на беззащитные головы. Видел, как толпа разрастается до массы, как обдает ужасом, а потом вдруг извергает насилие. Как она, уже обузданная конниками, вдруг снова теснит полицию, а полиция опять набрасывается на толпу. Понимаете?.. Масса — феномен, феномен людского множества, который всегда занимал меня. Масса действует на человека своим болезненным притяжением, искушает желанием принадлежать ей, во что бы то ни стало слиться, если хотите знать… Мерзко быть в ней, мерзко быть вне нее. Что одна мерзость, что другая… Но люди — всегда толпа, масса. Каждый отдельный человек есть толпа, масса, даже тот, кто сидит высоко в скалах, никогда с них не спускаясь, пребывая в своем высокогорном одиночестве. Однако он человек толпы, частица человеческой массы, да будет вам известно… Это что-то ужасное — быть в составе массы! Сознавать, что ты ее отродье и часть». Он сказал: «Давайте сходим на каток посмотреть на игру в ледяные шары. У местных три страсти: кёрлинг, разврат и карты. Вы поняли вчера, на что шла игра? Вы замерзли. Вам бы шарф потеплее. Неужели у вас нет настоящего толстого шарфа из шерсти?» Его понесло к груде валежника, и оттуда он сделал мне знак, чтобы я подошел поближе. «Смотрите!» — сказал он, приподнимая сучья. Я увидел четыре или пять косульих туш, смерзшихся в одну глыбу, из которой стеклянно поблескивали глаза. «В таких вот шалашах они всегда ищут спасения и всегда находят смерть при таком морозе, как нынче», — сказал художник. А мне вспомнилось то время, когда по весне я находил в лесах множество мертвых косуль и сволакивал их в одну кучу, чтобы потом мы с братом могли зарыть их в землю. Часто их обгладывали лисицы, и от косуль оставались только головы и скелеты.
Читать дальше