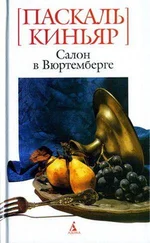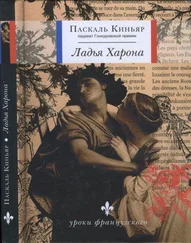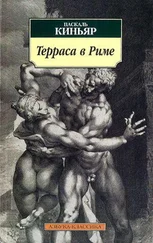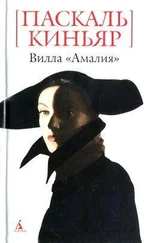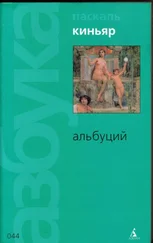— Мертвые — ничто без живых, — сказал он, чуть воодушевившись. — И живые не живут в мире, отгороженном от смерти. Бывает, некоторые из них упорно держатся за голоса ушедших, за их тени, за воспоминания о них, любят говорить о том, чего больше нет. О том, чего нет с ними, о том, чего нет совсем. И поскольку огонь их разрушает, они поддерживают его — этот огонь, разрушивший их, и ведут беседы подле него, ибо он кажется им вечным.
— Они, — продолжал он, — может быть, больше книги, чем живые люди.
Он попросил меня достать с нижней полки секретера воду из Бернхайма. Стаканы — слева, на маленьком столике. Мы молча выпили. Потом он снова заговорил:
— Рим строго отделял тех, кто сжигал мертвых, от тех, кто держал урну. Ребенка, держащего урну, называли urniger. Ибо от ребенка — чьи руки еще нежны и слабы и не обагрены чужой кровью, в чьих жилах течет, как подобает этому возрасту, чистая кровь — исходит тепло, способное согреть остывший пепел в урне, которую он держит. Я уверен, что именно отсюда пошло выражение «могила сердца» — сердца живущих, сердца читателя, как в книге Тацита. И это не для того, чтобы после их смерти сохранилось, хотя бы отчасти, то, что они пережили на своем веку. Но для того, чтобы живущие не совсем уж сужали границы жизни. Чтобы им не казалось, будто они живут как плотва или мальки-пескари, шныряющие у самой поверхности воды, слишком близко к солнцу, слишком близко к берегу и к полям, окаймляющим реки.
Суббота, 16 июня. Всё сразу. Последние фиалки — и появление первых почек.
Около шести часов. На улице Сены встретил Йерра. Потом, на улице Бюси, Рекруа, покупавшего салат у торговца овощами.
Мы зашли в кафе. Взяли по стакану белого вина — я и Йерр. Р. отказался пить.
— Не переношу вина, — сказал он.
— Интересно, как это возможно, — ответил Йерр.
— А что тут такого?.. — вскинулся ошарашенный Р.
— Вино можно приносить, подносить, преподносить, разносить, возносить или поносить, но переносить вино можно только в бочках или бутылках. Вы именно это имели в виду?
Воскресенье, 17 июня. Около семи часов наведался на улицу Бак. В прихожей, на комоде возле коридора, в стакане без воды — чахлый букетик увядших анютиных глазок, разноцветных, но уже потемневших.
В ванной. Э. только что извлекла из воды малыша Д. и теперь смазывала его бальзамом для тела. К великой его радости. Я нашел, что он прекрасно пахнет.
Д. сообщил мне, что подарил отцу ключ для пианино.
Вторник, 19 июня. Мы с Йерром зашли на улицу Бернардинцев. Марта предложила нам выпить. И подавила нас холодной вежливостью и нежеланием разговаривать.
Йерр сдуру ляпнул, что завтра День святого Иоанна и фейерверк. И что нужно просто прибегнуть к белой лилии и дикому портулаку.
Среда, 20 июня. Последний день весны. Последний — из погожих весенних дней. Было очень жарко. Я пошел на улицу Бак.
Преподнес малышу Д. божью коровку, залетевшую ко мне в окно нынче утром. Я поймал ее и положил в спичечный коробок, чтобы донести в целости. Малыш Д. испугался, когда она поползла по его коленке. Он открыл окно в детской. И она улетела. Пришлось мне поклясться ему, что она обязательно вернется на берег реки, откуда явилась.
Это священное создание почему-то внушает страх всем детям. Они пребывают в неведении (и чем дальше, тем оно прочнее), которое можно назвать скорее животным, нежели типично городским или человеческим, что мы сами — животные. Живущие среди других животных.
Первый день лета. Пошел дождь. Я отправился на улицу Бак.
А. снова начал работать. Но ему казалось, что у него ничего не получается. Он сидел за своим письменным столом, на котором стояла жесткая веточка букса, источающего резкий горьковатый запах, поскольку ее сбрызнули водой. Говорил с трудом, не очень связно, заплетающимся языком, как человек в сильном подпитии.
— Ах, эти приступы, — сказал он, — они даже начинают мне нравиться. Их внезапный приход, вызываемый любым случайным событием… Вдруг неожиданно тело сжимается. Живот схватывает судорога. Заставляет согнуться в три погибели. Сразу же. Налетает мгновенно и так же мгновенно отпускает. Остается только жуткий, острый страх…
И тогда день становится солнечным, небо — лучезарным, погода — ясной. Свет именно в эти минуты особенно резок. Вот так же резко страх отпускает тебя…
— Это реальность, — продолжал он. — И так же, внезапно, разрыв — небо. И так же, внезапно — колени слабеют прямо на улице. И так же, внезапно — страх, беспощадно нахлынувший страх. Он охватывает все твое существо. Заполоняет. Заглушает голос того, кто сдается ему без боя. Но одновременно он уступает. Уступает движению, вторжению. Даже будучи жестоким — уступает. Уступает разрыву. Коим и является.
Читать дальше