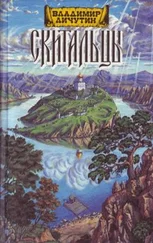Поначалу, войдя с улицы, женщина не почуяла, как холодно в баньке и студливо, но минут через пять озноб окутал ее всю, сырость пробила пальтишко и валенки.
– Топить надо, ты чего не топишь, старый? – нарушила молчание женщина. – Дров-то с собой не унесешь, на горке и сгниют. Никому не понадобятся твои дрова. Топил бы жарче, легче бы и жилось. Иль деревню запалить хочешь?
Крень промычал что-то, безумная веселая искра оживила его глаза: видно, предложение гостьи как-то затронуло его. Он встал, отдернул на сторону зачугуневшее от копоти одеяло – робкий снежный свет пробился в серое зарешеченное оконце. Старик наклонился над столом и в упор посмотрел в лицо женщины. Снова улыбка тронула тонкие синие губы, иная улыбка, неожиданно мягкая и грустная. Желтое темя в широких пятнах ржавчины еще помаячило над глазами Юлии Парамоновны, от сальных волос, спутанных за ушами, от залоснившейся, когда-то светлой рубахи, от потрескавшейся шеи душно и приторно пахло.
– Ты и не моешься, поди?
– Медведи не моются, а живут. Здоровье куда хошь.
– Ешь, ешь. – Женщина нетерпеливо сдвинула гостинец в кучку. – Я думала, ты умер давно. Ты и тогда-то казался старым. Прибрать у тебя? – вдруг предложила она и скинула с головы бархатную шапку с двумя бордовыми ягодками на тулье, хотела положить на стол – и побрезговала.
– А мне и так хорошо. Земля тоже грязь… На ней всё ростёт.
– Ну как знаешь. Я тебе всегда благодарна. – У женщины веки защипало, глаза готовно покраснели, она мизинцем смахнула слезу.
– Пустое, пустое…
– Благодаря тебе живу. В памяти, как в зеркальце… И шторм, и как на льдине вдвоем спаслись. Плачу, я ведь малюсенькая была, еще не оформилась. Лежу, тебя боюсь. Думаю, вдвоем на все море, на весь божий свет одни. Чего у тебя на уме? Возьмешь, сломаешь, реви не реви – никто не услышит. Да в море и спихнешь.
От столь откровенного признания Крень набычил голову: видно, что-то задело его, что-то и обидело, а может, и проникла женщина в самый скрытый умысел.
– Я ничего не помню, вот те крест. Ветер в голове, – сказал старик, не глядя на гостью. – Ты на ум острая, а я ничего не помню.
– Да тоже ум стал западать… А как мясом тюленьим кормил, помнишь? Я тебя потом-то не боялась. Очнусь от жара, а ты возле, греешь меня. Ну как отец родной. А как на шкуре меня тащил волоком, тоже забыл?
– Забыл…
– А у меня все на памяти. Я в том уносе и поседела.
– Я-то хорошо живу, – увел разговор Крень. – У меня хорошая пенсия. У меня все есть. Я хорошо живу. Это сын твой? – показал глазами на Тимофея, ссутулившегося у порога. – Пусть приходит, не обижу. Никого не принимаю, все с умыслом. А его приму. Я кой-чего могу дать. – Он с намеком посмотрел на гостью. – Земля тоже грязная, а на ей всё ростёт.
– Я не забыла. На ноги от болезни встала, хотела отблагодарить, а ты пропал. Ты куда пропал-то тогда? Искали тебя, искали… Спасибо тебе. – Юлия Парамоновна встала и поясно поклонилась, но бобыль и головы не поднял. – Слышь, спасибо тебе, – снова поклонилась гостья.
– Ничего не помню. Все забыл, – глухо, глядя в колени, произнес Крень, потом с болезненной силой всмотрелся в женщину. Он все помнил, может, с самого рождения хранил в памяти свою жизнь, но сейчас, неясно чем обиженный, он вдруг решил суеверно, что от этой женщины исходит все его зло. Знала ли она, ведала ли, как приходил он свататься к ней, перемогши собственную хворь и усталость. Она лежала тогда, разметавшись в жарком бреду, и посейчас помнится Креню голубая упругая жилка на ее виске, которую, кажется, стоит слегка надавить заскорузлым пальцем, чтобы кончилось всякое движение крови, и тяжелые веки с узкой прорезью бессмысленного, неплотно прикрытого глаза – и потому чудилось, что девушка хитро подглядывает и ловит каждое движение пришлого мужика, сама вся настороже. И только потные, внезапно поседевшие волосы, спутанные на лбу, да как-то неловко надломленная беспомощная шея выдавали тяжелое состояние больной. И, проникаясь жалостью к девчонке и тоскою собственного одиночества, нагнувшись над самым лицом и щекоча Юлькину шею простудными губами. Мишка Крень зашептал со всхлипом: «Юлька, не помирай, сватов зашлю… Помрет отец, свою избу поставим. Закабалил он меня, мочи боле нету». И показалось Креню, что согласно и жалостно сморгнули ее глаза, выдавив крохотную мутную слезинку… Для того разве спасал девку, тащил, надрываясь, ледяным закоченевшим полем, из сатанинского морского чрева выхватил, чтобы так запросто кому-то отдать. Положил он глаз на Юльку, поглянулись ему и спокойный ее нрав, и ровная неторопливая поступочка, и плавная устойчивость всего рано поспевшего тела, годного рожать мужиков. Помнится, выскочил он тогда из ее избы, ощущая на губах запах Юлькиной кожи, и закричал на всю темную, закабаленную снегами улицу: «На руках уташшу! Ой и закачу свадьбу, качну деревню.. Пять олешков заколю, пусть знают Мишку Креня! И на брагу не поскуплюсь. Ой и вознесу я тебя, Юль-ка-а!»
Читать дальше