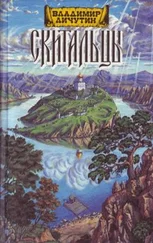Давно в душе Креня не было такой тоски, и никогда его жизнь не казалась такой проклятой. В его голове словно бы все повернулось, стронулось из темени, и тогда повязка спала с глаз, и бобыль увидал себя прежним…
Если бы не пастухи крестной Марфы Хантазейской, то помереть бы Креню возле кипящей Куртяйки, околеть бы, как последней падали: расклевало бы воронье, растащили бы лисы, а по весне лесным паводком стянуло бы кости в набухшую реку, да и засосало бы под бережину. А Марфа подняла крестника, поставила на ноги, продлила его жизнь. Была она жилиста, худа, темна, на голове черный повойник по русскому обычаю низко повязан по-над бровями, куда она прятала две жесткие смоляные косички. Нрав крутой, неразговорчивый, хватка мужицкая, да и вдовья Марфина жизнь и Марфины несчетные стада требовали характера. На двести верст ни одного чума, никто не перечил Марфе, не решался переступить ее троп, под самый город гоняла вдова своих оленей, чтобы ловчее сбыть; а по бескрайним болотам, на редких чахлых островках посреди топей, куда не пробраться и самому лихому человеку, не зная тропы, стояли ее провиантские склады с хлебом, сахаром и прочим товаром, не боящимся гнили. На много лет запаслась Марфа харчем, на долгие годы обезопасила себя от лихолетий, никакие смуты и перемены в мире не волновали ее и никак не отражались на ее устоявшейся жизни. Уже позже, когда приклонился Крень к чуму крестной и стал за третьего сына, показала Марфа и тайные лабазы свои, ставленные еще отцом, быть может, лет полста тому назад и по самую крышу забитые сухими лосиными шкурами. Знать, огромное лосевое стадо извел род Хантазейских. До двух сотен кож было в каждом складе, которые и сгнили уже, выпрели, вытлели, их выели моль и червь, да и сами-то лабазы похилило дождями и ветрами, и они едва доживали свое. А вот поди ты: жалко было Марфе расставаться с добром, ей сладко было лишь появиться однажды на оленях, навестить свое хозяйство, глянуть на него, да тем и утешиться. И уехать прочь, не зная, когда вновь приведет сюда тропа.
Когда крестили Мишку Креня, подарила Марфа на день памятный белую важенку с рыжей звездой на лбу, но оставила олениху в своем стаде. Через несколько лет приезжает и говорит, дескать, от важенки твоей родилась важенка, а от них еще две. И вот теперь, когда по воле случая оказался Мишка в чуме крестной, повела она его в стадо свое, колышущее, как море, окруженное злыми беспощадными собаками, и в этом ивовом море легко нашла Креневых оленей с метками в ухе. Их оказалось уже двадцать. Крень смотрел в ветвистую подвижную чашу, в мешанину оленьих рогатых голов и ничего не мог разглядеть, но с усмешкою в душе утешился тем, что провидение не оставило его в полной нищете и вдруг послало в его житье двадцать оленей. Позднее Крень уже из города написал Марфе, дескать, продай пару моих оленей, а деньги вышли, что крестная тетка и сделала скоро, отправила сто рублей деньгами. Но на вторую просьбу, наверное через год, ответила письмом, что его оленей задрали волки и пусть крестник больше не докучает просьбами, ибо помочь она ничем не сможет.
И сыновья Марфины были под стать ей: низкорослые, звероватые, только младший отличался тем, что был хром. Пили редко, но когда приводилось, то без отказа и жалости к себе, угрюмо и долго, не закусывая и не морщась; пили, будто воду, гранеными стаканами, изредка нарушая тишину протяжными словами, похожими на стон: «Ой, пить хочу». И слабость их не брала вроде бы, еще прочнее они становились на ногах, словно свинцом заливали себя, но только в какое-то неуловимое для глаза мгновение неисповедимая сила подрубала под коленки, и они валились беспамятно там, где стояли, лужа ли то была, городская ли шумная улица иль случайная съезжая изба, полная дорожного люду.
А однажды, в тридцать пятом случилось, приехал Крень со старшим Хантазейским, Васькой, в город. Была зима, улицы перемело, и по корытам дорог ездили как по тоннелям, с прохожей части едва виднелись шапки. По этому снежному оврагу слегка захмеленные тундровые гости неспешно и лениво подгоняли оленей: на передних нартах Васька, весь в мехах, только заиндевелая голова наружу, поверх куколя, и не чует холода, а на задней упряжке – Крень. Ему тревожно, он часто и подозрительно крутится, подмечая все, ибо впервые за последние годы выбрался на люди. А тут из-за угла навстречу машина, но думается так, что она далеконько пока и при случае остановится, пропустит тундровую пугливую животину. Но грузовик, завывая и окутывая тихую Корабельную улицу вонью и снежной пылью, насквозь пронзил и обе упряжки, и тундрового, слегка захмеленного ненца, который беспечно, как и все лесовые дети, сидел, полуоткинувшись за задок нарт. Крень же успел опрокинуться в сугроб, в самую мякоть его, прижаться, врыться в его чрево лицом и телом, а когда смерть промчалась, упреждающе срезав колесом подошву Мишкиного пима, мужик приобернулся и сквозь снежную пудру на глазах увидал кровавое месиво звериных тел, еще бившихся в постромках. Прибежал милиционер, потом другой, Креня призвали в свидетели, повели в участок, там потребовали вид на жительство, коего не оказалось, и Мишка так решил, упавши духом, что попался насовсем. Он вел себя странно и угрюмо молчал.
Читать дальше