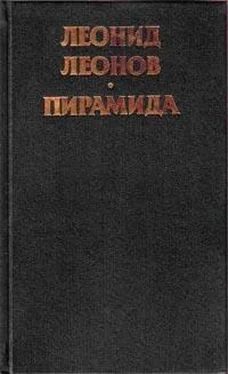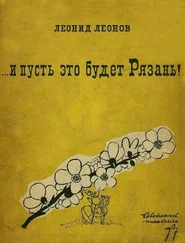После памятного, так и не реализованного томления о некой нарисованной двери в смежное бытие, образом которой минимум на месяц раздразнила его та провинциальная козявка в синей шубке, вторично за полугодие Сорокин заболел темой потенциального шедевра. Пусть она еще не просматривалась в глубину — тем сильней становилась его одержимость сделать чужое счастье, тем больше разгоралось нетерпенье мчаться в переулок Юлии и немедленно насладиться ее восхищенной немотой, без особой уверенности, впрочем, что, равнодушная к талантам и подвигам вокруг себя, не воспримет как должное халифскую щедрость подношенья. Нужно было как-то осложнить его врученье, даже толкнуть женщину на некоторые жертвы, чтобы не обесценить своего дара мнимой легкостью полученья. Поэтому еще засветло и телефонным звонком, не называясь, Сорокин убедился в ее возвращении с курорта, но вместо Плющихи отправился сперва к портному, потом в Дом кино, где бестолково, то и дело поглядывая на часы, провел весь вечер. Никогда так лениво не текло время, и все же после ужина и каких-то привозных мультипликаций в просмотровом зале у него еще хватило выдержки сыграть партию на бильярде, — лишь на исходе одиннадцатого и вдруг ринулся он по заветному адресу во всю мощь своих сорока лошадиных сил.
Переулок оказался изрыт для очередных коммунальных исследований, машину пришлось оставить на Плющихе. Зато, как заранее было известно Сорокину, наискосок через улицу против подъезда Юлии имелся телефонный автомат, так что при разговоре можно было наблюдать ее окна. Когда входил в будку, они как раз стали гаснуть одно за другим, все три, однако то ли ради утвержденья личности, то ли в отместку за что-то режиссер медлил браться за трубку, даже вышел наружу погулять минутку-другую, чтобы та, во втором этаже, прочнее улеглась в кровать.
Из будки видно было, как в двух комнатах, одна за другой, зажегся свет, и снова с дрессировочной целью он помедлил с ответом.
— Говорит ваш провинившийся паладин, некто бывший Сорокин, — замогильным голосом, чтобы посмешнее, представился он лишь на вторичный, злее, окрик Юлии. — В покаянном рубище и продрогший от ночной непогоды он стоит внизу у ворот и просит пристанища максимум минут на двадцать.
Та даже растерялась немножко от дерзости, на которую именно ему не давала никаких оснований:
— Но, дорогой мой, я только что приехала, не успела чемоданы разобрать... позвоните в конце недели! — и лишь теперь сообразила, кто ее поднял с кровати. — Вообще, откуда вы взялись среди ночи, безумный человек? Врываетесь, шумите на весь дом... Я же раздета, наконец!
— О, ничего, дорогая, я отвернулся и не смотрю. В ваших же интересах должен огорчить вас, пани Юлия: дело мое не терпит отлагательства.
Как и следовало рассчитывать, дамская любознательность готова была мириться с кое-какими неудобствами позднего вторженья, но требовался задаток.
— И дело настолько важно, что имеется риск забыть до утра? Подскажите же, чтобы я напомнила вам при встрече!
Приходилось показать краешек тайны:
— Ну, скажем, мне удалось сделать открытие. Искусство наше буквально ходит по хлебу, которым можно утолять нынешний голод людей в их чрезвычайном бегстве от настигающего мира. Причем одни, вроде вас, бегут из личной стесненности, бегут в тупик мнимого простора, другие же, напротив, стремятся укрыться в пустыне самих себя...
Не в сорокинских правилах было делиться с друзьями своими творческими замыслами. Тем обидней в ответ прозвучала шутка Юлии, что при всей туманности сделанная находка делает честь его уму, если только самостоятельная. Некоторое время затем она явно боролась с соблазном:
— Хорошо, Женя, послезавтра пообедаем в Химках... Сразу после массажистки, то есть не раньше трех. Возможно, опоздаю на полчаса. Теперь кладите трубку, мне холодно... — однако почему-то медлила сделать это сама.
Так много для Сорокина было поставлено на карту, что нельзя было уступать даже в заведомом капризе.
— Наш разговор должен состояться немедленно и на месте предполагаемого действия, то есть у вас там... понятно? Заодно хотелось бы срочно уточнить, надо ли помещать в титрах вашу девичью фамилию или настаиваете на той, покрасивей?
Вторичный, уже ультимативнее, намек сулил исполнение давних и почему-то стыдных желаний, но, значит, слишком увядших к тому времени, чтобы стоило жертвовать ради них теплой постелью. Вместе с тем предложение могло и не повториться более. Показательно, как старалась она притормозить наметившуюся сдачу:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу