Великодушие, элегантность, готовность закрыть глаза, хранить о Лэ благородное молчание в обществе наших общих друзей оставляли во мне все больше места для желания потребовать отчета и добиться справедливости, по крайней мере в их глазах. «Прощать, но не забывать», сказал уж не помню кто (Янкелевич? Франсуа Мориак?) о тех неискупимых грехах, которые встречаются нам иногда в жизни человека. Что касается Лэ, я принял торжественное решение отказать ей и в забвении, и в прощении.
Ибо я дошел до настоящей теории бесчеловечности разрыва и, следовательно, абсолютной виновности того, кто его вызывает. В «Исповеди» Руссо есть фрагмент, который я никогда не выносил — тот, в котором «Мамочка» — какое прозвище для такой стервы! — сообщает Жан-Жаку, что завела себе его преемника. Увидев, что Жан-Жак потрясен, «она ответила мне, — пишет он, — сказала таким спокойным тоном, что я чуть не повредился в рассудке, что я настоящий ребенок, что от таких вещей не умирают; что я ничего не потеряю; что от этого мы не перестанем быть друзьями, не станем менее близки друг другу во всех смыслах». Когда с кем-то возникает определенного рода связь, на определенном уровне, с определенными требованиями и интенсивностью, я думал, что наоборот, двое должны друг другу все и до скончания времен. Невозможно больше держать жалкие речи о неизбежной людской переменчивости. Тот или та, кто уходит, предает. И ничто не может оправдать такое предательство.
Ненависть неблагородна, пришлось мне признать, это мелкое, глупое чувство, она тщеславна, я ненавижу ненависть, и в то же время вот до чего я дошел. Я предавался ей, как предаются после долгих лишений грубому обжорству, вредному для фигуры, для веса, для сердца. Я предавался ей вопреки рассудку. Я предавался ей и погружался в нее. Я считал себя добрым — и больше не был добр. Я принял от нее все, но больше ничего ей не спускал. Она стала воплощением торжествующего зла: она добилась того, что озлобила и меня. Вдруг та взаимность, которой я тщетно добивался многие месяцы, была мной найдена в ненависти. Я отвечал ей той же бессердечностью, жестокостью, садизмом — той же монетой, и даже сторицей. Я, разумеется, никогда не перейду к действию, все это принесет ей не больше вреда, чем жужжание комара, но все же было это отвращение — настал ее черед, ей причиталась ее доля, бесконечная, всепоглощающая, губительная, переливающаяся через край ненависть. «Пусть она окружает ее — ее и воспоминание о ней — в течение долгих веков, пусть она утонет, пусть захлебнется в ней, пусть зло, которое она мне причинила, задушит ее, проникнув через поры, и навсегда освободит меня от нее!»
Эта агрессивность отражалась и в моих снах. В одном сне Лэ стучала ко мне в дверь, спрашивала, что ей сделать, чтобы я ее простил, а я показал ей на шкаф под кухонной раковиной — там хранились всяческие кошмарные хозяйственные препараты: трихлорэтилен, соляная кислота, крысиный яд и т. д. Она должна была сидеть там, голая, скрючившись среди флаконов, целый месяц. Когда эта прихоть пришла мне на ум, я задумался, смог бы я вытерпеть это ради нее, и ответил себе «да», сначала без колебаний, но потом неуверенно, ведь это должно быть почти невыносимо, даже на час! На час? И этого хватило бы. Если бы она любила меня, она бы пошла на это, да и на многое другое!
Однажды ночью — был я пьян или болен? — я включил радио и вдруг по каналу «Франс Мюзик» с волнением узнал окончание «Отелло» Верди; оркестром дирижировал Чун Мюнг-Вун. Я слушал, словно охваченный лихорадкой или безумием. Пел Плачидо Доминго. Я слышал каждое слово, видел каждый жест с неслыханной четкостью: я был там, я был Отелло, когда он видит в своих объятиях, как Альтюссер свою жену, Дездемону — «pallida, e stanca, e muta, е bella» («бледную, и недвижную, и немую, и прекрасную»). То есть в тот момент, когда он понимает, что он убийца. И наконец я стал думать, что убийство — самый прекрасный акт любви, тот, в котором любящий приносит свою жизнь в жертву возлюбленный, в тот самый момент, когда отнимает жизнь у нее. Наконец неверная спокойна, недвижна, безмятежна, полностью в его власти, и даже любит его как никогда. Единственное, что постыдно, — простота этого поступка: любой, кому пришлось страдать по вине неверной, мог бы узурпировать эту привилегию, не будучи ее достойным. Этот высочайший акт надо заслужить. Часто — всегда? — будущая жертва, как Кармен в четвертом действии, как Лидия в «Рокко и его братьях», знает, кто ее убьет, она в каком-то смысле выбрала своего палача. Да, это своего рода священнодействие, это самая прекрасная почесть, которую мы когда-либо сможем воздать друг другу, Лэ и я — я, выказав ей это высочайшее… и последнее доказательство любви, она — предчувствуя его, «заслужив» его своими терзаниями, даже принимая его заранее. Как самоубийство вдвоем.
Читать дальше
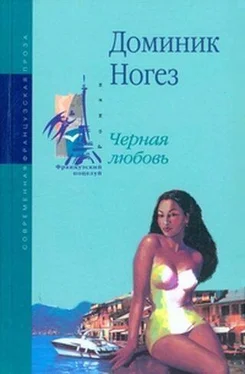





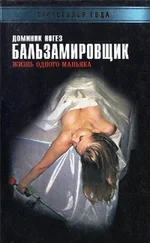
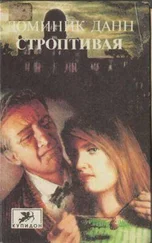
![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)



