Так мы подходим к обиде — которая, наряду с сожалением об утраченном сексуальном удовольствии, является самой жгучей гранью разрыва. Значительную роль играют здесь друзья — те, кого называют общими друзьями. Наши общие друзья, хоть они сначала и были друзьями Летиции, как Кристель, или моими, как Лора или Пьер, невероятно, как в один день, предупрежденные каким-то озарением или таинственным ужасным сигналом, который я подал, сам об этом не подозревая, все эти добрые души, которые обычно разговаривали со мной о ней, которые постоянно меня о ней расспрашивали, вдруг напрочь перестали ее упоминать, как будто ее никогда не было или как будто я прокаженный или наркоман, с которым лучше не говорить о его недуге. Деликатность? (Но почему она проявилась только теперь?) Страх, что мне будет неприятно? (Но они могли бы и сообразить, что надо мне предложить помощь, узнать, выдерживаю ли я удар, постигший меня!) Трусливый отказ вмешиваться в дело, в котором рискуешь совершить промах или даже получить по башке? Или «мы» больше их не интересуем? А некоторые из них, те, кто не был в курсе, все еще спрашивал меня о ней или хвалили ее — что называется «ляпали» — и главное, сами того не желая, поставляли мне о ней свежую информацию. И так я узнал невероятное, невыносимое: она продолжала жить — дышать, ходить на вечеринки, смеяться, быть счастливой, кто знает — без меня!
Досада очень быстро превращалась в унижение, если мне называли имена — Сандру, которая заезжала за ней в Барселону и с которой она, я слышал, долго ездила по Испании, или этот продавец кустов. «Эти стервы, эти сволочи, которых она посмела мне предпочесть!»
Два моих друга, Доннар и Пьер, которым я открылся (выражение вполне точно, жалобы выпускаешь из себя почти невольно, как вздохи или дыхание, а не излагаешь их ясно и обдуманно), более или менее горячо советовали мне отомстить (непринужденный диссонанс друзей — подателей советов, которые в подобных печальных случаях, всегда в какой-то мере предаются невинным удовольствиям любовных интриг, когда мы просто страдаем от того, что для нас не является ни войной, пусть даже бархатной, ни даже делом, на которое мы можем хоть как-то повлиять). Я с негодованием отказался от этой идеи.
Нельзя сказать, что эти нездоровые настроения не замарали моих чувств. Например, когда я уверил себя в том, что окончательно заменен в ее сердце (по крайней мере, в ее постели), тайная надежда, что тот или та, которые сменили меня, гораздо меня хуже и вскоре заставят ее с сожалением вспомнить обо мне. Это значило забыть — о кошмарное предположение! — что она, возможно, изменилась, причем как раз благодаря роману со мной, стала более терпимой и нежной! В таком случае это было бы верхом несправедливости: чтобы она из-за всего, что я вытерпел без жалоб, теперь приспособилась к человеку, который меня не стоит!
Но желать Лэ, чтобы новый любовник ей опротивел и она пожалела обо мне, — не значит мстить. Месть всегда казалась мне чувством низким, архаичным и недостойным. Я носил в себе только одно утешительное переживание — ту мечту о высшей справедливости, которую лелеют отвергнутые влюбленные. Жертва, драпируясь в скорбное достоинство, ничего не предпринимает, ждет, надеется (звучат скрипки). Бывшего палача (или, в данном случае, мучительницу) осеняет Божья благодать, он падает на колени и восклицает, возведя очи горе: «О Боже! что я сделал! Я пытал святого. Только он был хорошим, великодушным, сделал меня счастливым, и т. д., и т. п.» (скрипки поют вдвое громче, к ним присоединяется кларнет и флейта). За недостатком Божьей благодати, весьма редкого духовного товара, мое тщеславие могло приписать ей восхищение (впрочем, почти столь же маловероятная штука): я наконец сниму полнометражный фильм, один из тех, что прославляют режиссера и внушают гордость его знакомым, все говорят ей обо мне, она разыгрывает безразличие, но от досады кусает пальцы до крови.
Менее тщеславный вариант — теперь, когда все было заключено в прошлом, я мечтал, чтобы сделанное во время нашей связи принесло свои плоды: все добро, которое я ей принес, все семена самоотверженности, терпимости и прощения, посеянные мной, прорастут и поднимутся и задушат ее угрызениями совести.
Но даже угрызений совести мне уже не хватало. Я понял, что есть люди, которые слишком легко в них признаются. Как ковбои с Дикого Запада, которые сначала стреляют, а потом думают, они с легким сердцем совершают всевозможные проступки и преступления, а потом считают, что расплатились, прося прощения, когда уже слишком поздно. Обладая чувством справедливости, именно этих противоестественных созданий следует считать наименее достойными прощения.
Читать дальше
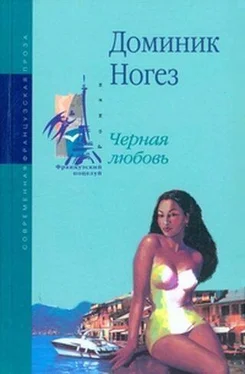





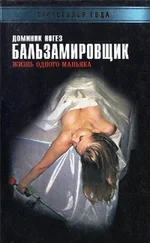
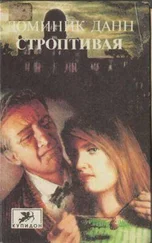
![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)



