Двусмысленный и даже — какое слово может обозначать оружие, ранящее как жертву, так и нападающего? — обоюдоострый. И в то же время несущественный: какой-нибудь пустяк, один жест, и все бы наладилось; мне было бы достаточно позвонить ей. Но нет, упрямый голосок умолял меня не уступать. Или я уступал в глубине души, в принципе, но откладывал время решения. И когда наконец я позвонил ей, никто не снял трубку. Она не вернулась домой или снова вышла. С кем? Ревность дала новые поводы быть несгибаемым. И жестокая игра началась опять, и я чуть глубже увяз в страдании.
После первой встречи с организаторами в кинотеатре «Палаццо» я обедал один в портовой траттории. Благодаря vino della casa я узнал, что сплетается в глубине моего существа со вчерашнего дня. Я уже испытывал этот духовный жар и холод, это наслаждение, доставляющее боль. Когда? У меня всплыло яркое и жгучее воспоминание.
В первый раз — по крайней мере, в первый раз, когда это переживание было сознательным (но к тому времени, вероятно, оно уже повторялось несколько раз и восходило, скорее всего, к раннему детству) — это случилось, когда я был с мамой, в летние послеобеденные часы в Биаррице.
Тогда мы еще жили рядом с церковью Святого Мартина, у нас был большой сад. Так и вижу себя на солнце, с сестрой Элоди, мы играем, бегаем. Разразилась ссора. Мама вмешалась. Наверное, она решила, что неправ я. Наверное, даже произнесла несколько жестокое слово: «дурак» или «глупость». Потому что потом я вижу себя в моей комнате — я замкнулся, забаррикадировался. Меня зовут полдничать, я не спускаюсь. Я плачу. И вдруг — эта шкатулка. Эта большая красивая шкатулка из красного дерева, которую мама недавно подарила мне на день рождения. Она написала внутри: «Дорогому Эрику». А я в слезах яростно вычеркиваю мое имя и вместо него пишу несмываемым фломастером слово «дурак». Порчу, навсегда оскверняя, вещь. Иду и символически возлагаю ее на стол столовой, изгоняя из моей комнаты, где я тотчас же запираюсь снова. А мама через дверь ласково уговаривает меня открыть, взять обратно свой подарок и утешиться, я же, упрямствуя в своем горе, отказываюсь и плачу еще пуще. Я страдаю от этого маленького горя сначала почти с наслаждением, потому что оно в основном воображаемое (стоит повернуть ключ, чтобы оно исчезло), потом боль и ярость становятся все сильнее, потому что я собственным своим упрямством претворяю его в действительность (мама утомится, я останусь один), но это сильнее меня, я не могу уступить, она не может вот так просто отделаться, я подниму ставку, я готов дойти до трагедии. Чем больше времени проходит, тем больше я страдаю, тем больше она страдает, тем больше я страдаю, потому что она страдает, не решаясь положить конец этому безумию, которое действительно обернется драмой (наконец я стал угрожать выброситься из окна, пришлось вызвать пожарных).
Почему я упомянул о наслаждении? Где, к чертовой матери, удовольствие в этой маленькой драме? Но оно было здесь, однако оно или — если назвать по-другому — какая-то невероятная сила подталкивала меня действовать во вред не только маме, но и мне самому. Во вред себе? Это только видимость, действительно, никто не может обдуманно желать себе вреда. Во всем этом зле я неосознанно искал своего блага. Но какого?
Вдруг на улице Сан Лоренцо мне на глаза попалась афиша идущего на моем фестивале фильма, в котором Пазолини дирижирует Каллас, — и в ней имя Медеи. Медея, чудовищная и страдающая, убившая собственных детей из ненависти к их отцу: какая фигура лучше символизирует то, что я пытаюсь выразить? Ведь есть связь между игнорированием матери и матереубийством. Одно маловажно, другое трагично, но в основе своей это одна и та же война, война, в которой бросают вызов себе самому и в то же время другому, себе самому, чтобы заставить другого покориться; другому, раня которого, страдаешь прежде всего сам; война со своим собственным горем и вместе с тем захват заложника, при котором заложник — ты сам, а для того, чтобы оказать давление и сделать шантаж достоверным, служит начало самоповреждения. В случае обычной обиды покалеченным, растерзанным оказывается связь с другим в своей самой будничной и простой форме — разговор. Я молчу, чтобы заставить другого почувствовать себя обездоленным. Но лишая другого моего слова, я беру на себя риск быть лишенным его слова, а также удовольствия быть выслушанным. Я молчу, я заставляю нас молчать. Это и правда обоюдоострое оружие. Только, как в дуэлях «прекрасной эпохи», битва идет до первой крови. Разрыв, возникающий в этом молчании, только обозначен, но не состоялся в действительности. Это почти ритуал, мы словно в театре. Мы надеемся, знаем, что все кончится хорошо. Мы символически разорвали узы привязанности, только чтобы их укрепить. Это как в покере: я делаю вид, что проигрываю, чтобы отыграть всю свою ставку и даже гораздо больше того. Возвращение к хитростям раннего детства. Я все время ожидаю, что меня прервет ласковое прикосновение — мать или отец возьмет на себя всю вину и вернет свою привязанность.
Читать дальше
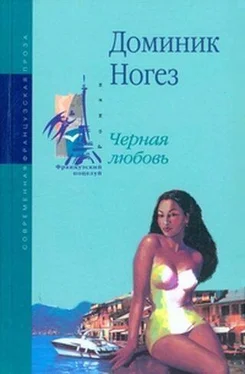





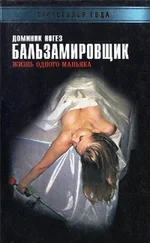
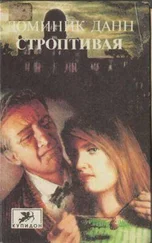
![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)



