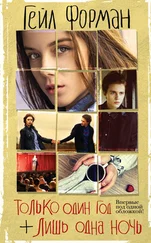Не спалось. Громко тикали часы. Кошка мяукала на улице. Гнуло берёзку. Гроза прислонилась к стеклу, пробегали судороги. Вот-вот дождь. Курчавый затылок. Тапочки, её — опушённые. Мои — шлёпанцы. Трубка насосалась нежного голоса. Шрифт резкий. Бродил из угла в угол. Сиамский голос. Такси, колено. Сил человеческих нет смотреть! Стукала дверцей, швыряла бельё с полок. — Хоть бы одно утро встать по-людски! — Я лежал без признаков жизни. Её голова загоралась, попадая в луч. Столик с зеркальной спинкой. Флакончики, коробочки, карандаши, карты. Весёлое, невесёлое лицо. Рябиновое в восьмом часу, передвигала вешалки. Надела костюм, ягоды. Во рту августовская горечь. Червовый валет. Кто бы это мог быть? И что это вообще всё означает? — Кавардак! Сложу аккуратно — через день опять комом. — В ночной рубашке перед раскрытым шкафом. — Ну, хорошо, хорошо! Пойдём. Куда хочешь, туда и пойдём! — Октябрь. Дотронулся, отдёрнул руку. — Ну, скоро? — Без существенных осадков. Дождик, зевки. Каждый под своим зонтом. Тазы. Лидия Андреевна убирает тряпкой. — Что тут творилось! Гейзер! — Год, число, дом, город, жизнь… Вдруг сейчас откроет совершенно незнакомая, чужая женщина?.. — В синюю или хрустальную? — Хрустальную. — Спросил: не хочет ли она лимона. Хризантемы захирели. — Не люблю, когда меня по волосам гладят. Что я, кошка? — С гадливой гримасой отстранила мою руку. Отвернулась к стене. — Иди, иди, нечего. Не забудь погасить свет. — Дорога жёлто светилась. Женщина в белом халате, приспустив стекло, спросила: где дом десять? Я показал кругообразно рукой. — Куда мы попали? — досадливо обратилась к шофёру. — Второй час плутаем. Как бы нам с тобой роды не пришлось принимать. — А что? И примем. — Шофёр выбросил окурок, искорки унесло. Что же теперь будет? Ледяная вода, море в иголках! Я видел: море кишит стальными иглами! В четверг, как вошёл — две снежные маски. — Что случилось? — Не знаем, утром ушла в школу — и до сих пор. Говорят: попрощалась, и никто её больше не видел. — Снял пальто, шапку. У каблуков каймой налип снег. — Долго тебя ждать? Или ты за спинами собираешься мой день рождения праздновать? — Я испугался: вот-вот засмеются. Маринованный помидор плавал в банке. Ускользал — дьявол красный. — Тихо! Дайте послушать! — Лидия Андреевна шарит на столе очки. Бешеная голова идёт на берег, топчет чью-то низкую страну, то ли китайцев, то ли голландцев, сметая дамбы и домики. Катастрофа не озвучена. — Алло! Алла? — Очки в чехле. Л. судорожно сжимает руки: — Зуб выпал. Перед смертью бабушки такой же сон. — Ночь, ночь, ночь… Когда же утро?.. В половине шестого нервы подпрыгивают до потолка и опять рушатся в постель. — Что ты? — Сейчас, сейчас. Холодной водой освежусь. — Ранняя пружина сотрясает этажи. Угрюмые тени. Наплевать, наплевать. Повернусь к звёздочке — черно. Три окна-решётки. Достоевский ходит в чёрной шинели с поднятым воротником, прячет топоры. Канал, колоколенка. Сырая метель. Погодка. Сгружал мешки рыжебородый гигант Саша. На Грибоедова. — А тут что, в картонных ящиках? — Осторожней, осторожней! — Крупная, шестидесяти лет. — Не доживу до светлого дня! — Шкаф застрял на лестничной площадке. — Говорили тебе, тётка-разбирать! — Садовая, дождик. Троллейбус летел, качался. Я стоял на задней площадке. Вдруг увидел её на бульваре под тёмными липами. Она, она! Зонт её, черно-розовый узор. Её походка, подрагивал хвост рыжих волос, сумка на согнутой руке. Смотрел, зачарованный. Мгновенно меняется погода. Утром светло, солнце. Проводил до метро. Вернулся домой, поджарил вкусную булку, выпил чаю, читал переписку Гёте-Шиллера. Шоколадная книга с крупным ясным шрифтом. Вдруг ветер, потемнело, деревья закачались, зашумели и — дождь. Мне очень грустно все эти дни. Густой-густой снег. Шёл в саду, у Адмиралтейства. Стоял в аллее, смотрел… Такая тоскливая перспектива. Деревья раскачивались суками в тёмном воздухе, голые, чёрные. Желтело здание, тусклое золото шпиля. Шёл я и повторял: ах, как хороша… как хороша… Невозможность, невозможность. И так хотелось хранить в совершеннейшей, полной, неприкосновенной чистоте это чувство, этот гипноз красоты, этот облик невозможного и мучительного очарования, так хранить — чтобы не тронуть и словом, и мыслью, и тенью мысли… Никогда не забуду (он был или не был, этот вечер?..) Какая мучительная книга Мирбо — «Голгофа». Одеваюсь — ив темноту. Там хаос обезумевших мокрых хлопьев. Метель всё гуще, снег залепил пальто, лицо. Деревья — призраки. Холмы… И платформа словно повисла… В домах мутные огоньки. Вспыхнул синей сливой фонарь, мигнул и погас. Тьма. 18:20. Циферблат не разглядеть. Дрогнул огонёк, и я его умоляю: ну, вырасти же поскорей! Что же ты не растёшь, дрожишь? Не тот он, не тот. Обманный огонёк. И опять мысли несутся лихорадочным роем вокруг кажущейся яркой точки, дразнящей иллюзии… Когда я опять повернулся лицом к метели, лучистый конус захватил платформу, рассекая мятущееся царство хаоса. Лязгает прерывающий движение состав. Двери раздвигаются, выходят люди, тёмные, незнакомые. Где же она?.. Льющиеся сосульки, январь. Он говорил: ты посмотри — какие нереальные рыла! Темнел вечер. Трамвай мог заблудиться на мостах, в ореолах, в бронзовых дисках фонарей. А к семи часам нужно к бубновому каналу. Жёлтый, с Нового года пьяный портфель. Бесы-буквы. Он расстегнул куртку, вытолкнул сигарету из пачки, закурил. Выдохнул несколько затяжек. Держа в длинных дрожащих пальцах свисающие листы, начал мерным певучим голосом… Он уходил, конвоируемый друзьями. Удаляются в бликах канала, буден, бубен, трое, он в центре, в шубе. К Балтийскому вокзалу. Трамвай звенел и кидал бенгальские огни. Над каналом блистала золотая бадья бессмертья. Рассвет. Недоносок. Мычу между словами и между молчаниями. Заикаюсь — последнее. Крылья улетели. Лечу, ничей. Пусто, делай, что хочешь. Я пишу в паузах между слов, это поистине несчастье. Мне бы букву — с неба. Фразы начинаются с точки, оборачиваются и шипят заглавной злобой. Крылатые умолчания, каркая, улетают стаями. Это не день, не два, не вода, не поцелуй, не огонь… Это — полки понедельников.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Екатерина Кариди - 7 и одна ночь [СИ]](/books/25774/ekaterina-karidi-7-i-odna-noch-si-thumb.webp)